Аракчеевский сынок - [100]
– Больше ни слова не скажу. Говорят вам толком, – вскрикнул он хрипливо, – не хочу я об этих гадостях рассуждать. Буду ждать – что будет, то и будет. Как хватит его и меня вслед за ним, так и полетим. Он там куда знает, а я – вот сюда – около Мойки на углу, два кабака. – Так и буду из одного в другой перебегать, с первого же дня ведро выпью. Да. Я вам говорю – выпью! – вскрикнул Шваньский, хотя Квашнин молчал и даже не глядел на него.
– Я вам повторяю, Иван Андреевич, что все это выдумки, все это разъяснится – я в этом уверен, потому что…
Но в эту минуту вбежал Васька и прервал Квашнина.
– Проснулись! Вас просят, – выговорил он.
И когда Квашнин переступил порог горницы, Копчик прибавил тихо:
– Должно, хворают: лежат, очень белы лицом и глаза такие… Должно, хворость какая начинается.
– Господи Иисусе! Как же ты можешь, разбойник, таить это от меня! – отчаянно воскликнул голос за спиной офицера. Он обернулся и увидел мамку Авдотью, бледную и перепуганную.
– Родной мой, – заговорила женщина тревожно. – Попросите его меня допустить к себе. Если он хворает, я его выхожу. Не впервой… Будьте милостивы…
Квашнин глядел на Авдотью молча и не сморгнув, но не слыхал ее слов.
«Вот кто знает все! – думалось ему. – Если есть что знать – она знает».
LIII
Войдя к Шумскому в спальню, Квашнин нашел друга на постели, лежащего на спине с подсунутыми под голову руками. Лицо его было бледно, глаза сверкали необычным блеском, но в выражении их не было гнева, а ясно и ярко сказывалось как бы невероятно-мучительное физическое страдание.
– Нездоровится? – произнес Квашнин, становясь перед ним, но смущенно опуская глаза.
Шумский глянул на друга пристальнее и выговорил глухо:
– Смерть! Нет, хуже смерти… Умирать, наверное, легче… Вот когда я узнал, что такое – адская мука… Когда Еву потерял, думал, хуже не будет… А теперь… вот…
Шумский не договорил и глубоко вздохнул.
– В чем дело? что случилось? Ведь ты говоришь, что не стрелял по нем… – спросил Квашнин.
– Как мальчишка дался… Отняли пистолет.
– И слава Богу! Мог убить.
– Он меня убил… Не я его… Одним словом убил, простым словом. Да, простое слово. Подкидыш!
– Что?! – воскликнул Квашнин. – Он тебе это сказал!
– Ты это знал…
Квашнин молчал.
– Ты это знал… Ты не удивился теперь… Вы все… Весь Петербург… Все знали! Зачем же никто мне не сказал это…
Шумский смолк и глядел перед собой в стену лихорадочно засверкавшими глазами.
– Не будь фон Энзе – я бы и теперь не знал… Все воображал бы себя…
– Михаил Андреевич, разве этот немец присутствовал при твоем рождении, разве…
– Однако я – Андреевич… А граф – Алексей Андреевич.
– Это клеветническая выдумка… Такие вещи нельзя говорить. Все можно сказать. Надо доказать. Фон Энзе лжет…
– Нет, не лжет! – оживился Шумский. – Не таковский. Скажи фон Энзе, что я убийца, и я поверил бы. И стал бы вспоминать, когда убил.
– Надо доказать. Эдак и про меня и про всякого можно то же выдумать. Где доказательства? У кого они?
– Здесь. У меня!..
Шумский тихо принял одну руку из-под головы и показал себе на сердце.
– Здесь доказательство, что это правда… Подкидыш. Чужой… Да…
Квашнин опустил голову, голос Шумского тихий, томительный, за душу хватающий, потряс все его существо. Квашнин боялся, что слезы явятся у него в глазах, и он отвернулся.
– Я не верю, – проговорил он чуть слышно, но звук его голоса выдавал неправду.
– Я знаю… Да. Подкидыш! Недаром я с колыбели презирал эту пьяную бабу и ненавидел этого дуболома. Боже! Что царь нашел в нем? Что Россия видит в нем? Я вижу зверя и дурака. Да. Зверь и дурак! Свирепо жесток, и глуп…
Шумский приподнялся, сел на кровати и взял себя за голову.
– Бедная башка!.. Вот ударили-то… Крепка была, а надтреснула…
Он помолчал и, вздохнув глубоко, заговорил медленно, но более твердым голосом:
– Ты, думаешь, друг, Петр Сергеевич, что я скорблю о том, что не побочный сын вельможи-зверя и пьяной канальи. Нет, видит Бог, я рад даже, что Аракчеев мне чужой человек и она чужая… Я это всегда чувствовал и теперь рад, что узнал наверное… Но я… Я теряю Еву… Она не может идти замуж за… За кого? Я и сам не знаю. Кто я – кто это скажет… Мальчишка с деревни, сынишка крестьянина, а то… А то и лакея… Да, сынишка даже не простого мужика крестьянина, а дворового хама… Вот как Васька…
Шумский вытянул руки и стал смотреть на них, потом грустно улыбнулся.
– Вот… Да… Хамово отродье… Кровь дворянская?.. Нет, хамская, холуйская, лакейская. Я Ваське Копчику говорил еще вчера об этом… А оно и во мне… Да это не… невесело. Ева одно – а я другое. Говорят ученые – в заморских краях все равны, все одинаковы, по образу Божию… Да я то в это не верил! Глубоко, сердцем моим не верил. И вот оно – наказанье! Тяжело, друг Петя.
– Почему же ты знаешь… – заговорил Квашнин. – Может быть, ты хотя и не Аракчеева сын, но все-таки нашего… – Квашнин запнулся и прибавил быстро, – дворянского происхождения.
– Нет, не вашего… – отозвался тихо Шумский, странно улыбаясь и налегая на это слово. – И вот теперь надо узнать, кто я… И я узнаю!.. Я дороюсь… Но что пользы будет… Она, все-таки, моей женой не станет.
– Ты забываешь, что ты офицер и флигель-адъютант государя. – Стало быть, ты сам по себе…
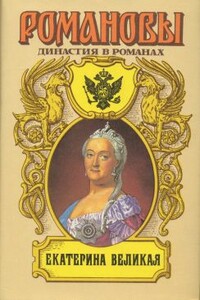
Екатерининская эпоха привлекала и привлекает к себе внимание историков, романистов, художников. В ней особенно ярко и причудливо переплелись характерные черты восемнадцатого столетия – широкие государственные замыслы и фаворитизм, расцвет наук и искусств и придворные интриги. Это было время изуверств Салтычихи и подвигов Румянцева и Суворова, время буйной стихии Пугачёвщины…В том вошли произведения:Bс. H. Иванов – Императрица ФикеП. Н. Краснов – Екатерина ВеликаяЕ. А. Сапиас – Петровские дни.

Роман «Владимирские Мономахи» знаменитого во второй половине XIX века писателя Евгения Андреевича Салиаса — один из лучших в его творчестве. Основой романа стала обросшая легендами история основателей Выксунских заводов братьев Баташевых и их потомков, прозванных — за их практически абсолютную власть и огромные богатства — «Владимирскими Мономахами». На этом историческом фоне и разворачивается захватывающая любовно-авантюрная интрига повествования.

1705 год от Р.Х. Молодой царь Петр ведет войну, одевает бояр в европейскую одежду, бреет бороды, казнит стрельцов, повышает налоги, оделяет своих ставленников русскими землями… А в многолюдной, торговой, азиатской Астрахани все еще идет седмь тысящ двести тринадцатый год от сотворения мира, здесь уживаются православные и мусульмане, местные и заезжие купцы, здесь торгуют, промышляют, сплетничают, интригуют, влюбляются. Но когда разносится слух, что московские власти запрещают на семь лет церковные свадьбы, а всех девиц православных повелевают отдать за немцев поганых, Астрахань подымает бунт — диковинный, свадебный бунт.
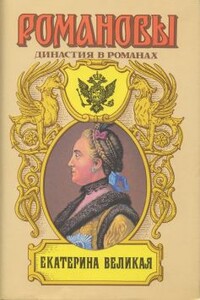
«Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сём отношении Екатерина заслуживает удивления потомства.Её великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало её владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве».А. С.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Салиас де Турнемир (Евгений Салиас) (1841–1908) – русский писатель, сын французского графа и русской писательницы Евгении Тур, принадлежавшей к старинному дворянскому роду Сухово-Кобылиных. В конце XIX века один из самых читаемых писателей в России, по популярности опережавший не только замечательных исторических романистов: В.С. Соловьева, Г.П. Данилевского, Д.Л. Мордовцева, но и мировых знаменитостей развлекательного жанра Александра Дюма (отца) и Жюля Верна.«Принцесса Володимирская». История жизни одной из самых загадочных фигур XVIII века – блистательной авантюристки, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и претендовавшей на российский престол.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
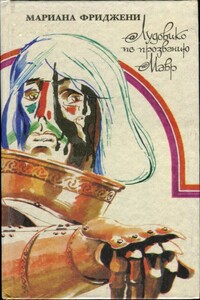
Действие исторического романа итальянской писательницы разворачивается во второй половине XV века. В центре книги образ герцога Миланского, одного из последних правителей выдающейся династии Сфорца. Рассказывая историю стремительного восхождения и столь же стремительного падения герцога Лудовико, писательница придерживается строгой историчности в изложении событий и в то же время облекает свое повествование в занимательно-беллетристическую форму.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основу романов Владимира Ларионовича Якимова положен исторический материал, мало известный широкой публике. Роман «За рубежом и на Москве», публикуемый в данном томе, повествует об установлении царём Алексеем Михайловичем связей с зарубежными странами. С середины XVII века при дворе Тишайшего всё сильнее и смелее проявляется тяга к европейской культуре. Понимая необходимость выхода России из духовной изоляции, государь и его ближайшие сподвижники организуют ряд посольских экспедиций в страны Европы, прививают новшества на российской почве.

Владимир Войнович начал свою литературную деятельность как поэт. В содружестве с разными композиторами он написал много песен. Среди них — широко известные «Комсомольцы двадцатого года» и «Я верю, друзья…», ставшая гимном советских космонавтов. В 1961 году писатель опубликовал первую повесть — «Мы здесь живем». Затем вышли повести «Хочу быть честным» и «Два товарища». Пьесы, написанные по этим повестям, поставлены многими театрами страны. «Степень доверия» — первая историческая повесть Войновича.

«Преследовать безостановочно одну и ту же цель – в этом тайна успеха. А что такое успех? Мне кажется, он не в аплодисментах толпы, а скорее в том удовлетворении, которое получаешь от приближения к совершенству. Когда-то я думала, что успех – это счастье. Я ошибалась. Счастье – мотылек, который чарует на миг и улетает». Невероятная история величайшей балерины Анны Павловой в новом романе от автора бестселлеров «Княгиня Ольга» и «Последняя любовь Екатерины Великой»! С тех самых пор, как маленькая Анна затаив дыхание впервые смотрела «Спящую красавицу», увлечение театром стало для будущей величайшей балерины смыслом жизни, началом восхождения на вершину мировой славы.