Аноним - [2]
— Надо чтобы по каналу, в старом парке всегда плыла лодочка, — говорю я об открытке, — чтобы жива была самая давняя вера в "прошлое время".
И дочка тихо улыбается, так же, как улыбалась десять лет назад моя тетушка, щуря близорукие глаза на видные в створе ворот окна своего дома.
ГОРОЖАНИН (маленькая повесть)
Часть I. Сон
Вечерами, когда в наших гулких коридорах торопливо хлопают двери, я чувствую что‑то вроде ветра, уносящего людей по домам, и выхожу курить. Вскоре почти все уходят. Из окна третьего этажа я вижу, как они, торопясь, пересекают наш двор–колодец, на ходу застегивая легкие плащи и куртки, и мне кажется, что в эти последние весенние дни все вдруг заспешили в лето. Я открываю окно, и кто‑нибудь из них всегда машет мне рукой. Потом я отворачиваюсь и жду. Длинный метров в тридцать коридор передо мной уже по–ночному пуст и темен. Оставленный вахтером в середине и в дальнем от меня конце свет театрально подчеркивает перспективу, и вскоре в освещенном пространстве появляется женская фигура. Я машу ей рукой, и она подходит, зябко сутуля плечи, говоря обычно одну и ту же фразу:
— Закройте, пожалуйста, окно. У вас есть сигарета?
Я и сам мерзну, ожидая ее, но не двигаюсь, делая вид, что ничего не слышал. Она подходит сосем близко, вглядываясь мне в лицо, и я, улыбаясь, спрашиваю:
— Наташа, вам не холодно?
Кончается тем, что Наташа сама закрывает тугие рамы, мы закуриваем и начинаем говорить о работе. Говорить об этом совсем не хочется, но я притворяюсь, расспрашивая ее и кивая, все лишь затем, чтобы смотреть на ее лицо вблизи, слышать ее голос и забываться, теряя нить разговора, и неожиданно вспоминать что‑то давнее и дорогое, оставшееся навсегда непонятным.
— Вы не слушаете? — вдруг говорит она, улыбаясь и обижаясь одновременно. Я испуганно киваю, но не могу остановить своих мыслей. Мы молчим некоторое время, а затем говорим о поездке в Москву, на праздники или еще когда‑нибудь, но обязательно вдвоем. Это наш любимый розыгрыш, также необходимый нам, как чашка кофе днем или сигарета.
Обычно, уже уходя домой, Наташа спрашивает:
— Почему вы всегда так долго сидите на работе?
И я вру ей так же неуклюже, как в школе, когда скрывал, что не умею танцевать:
— Это все потому, что вы мне нравитесь, — говорю я мрачно, и она видит, что я шучу.
Мы расстаемся, и я долго сижу один в своей комнате, предаваясь молчаливой праздности. Пытаюсь читать, курю, набираю номера знакомых телефонов и думаю о Наташе, но все не до конца. Постепенно мной овладевает досада на самого себя, вытесняя все остальное. Мне досадно делается, что прошел еще один день, а рукопись статьи, которую я сам напросился писать, все так и лежит у меня в столе неоконченная; досадно, что я, имея два высших образования, работаю старшим лаборантом на факультете журналистики и занимаюсь такой ерундой; досадно, что выписки к тайно сочиняемой мной книге вот уже год лежат неразобранными; досадно, что все время трачу на разговоры; досадно тратить жизнь и ощущать, как медленно и равнодушно она тянется.
Мои самоистязания в темной комнате похожи на охоту без выстрела: курок уже взведен, но в самый последний момент я теряюсь, и никак не могу довести свои мысли до конца. Страх понемногу уходит, оставляя после себя пустоту и свободу.
Впрочем, что такое свобода? Я не знаю, но вдруг чувствую себя счастливым оттого, что одинок, что я чужой на этой работе, рад тому, что ушла Наташа, и можно идти домой пешком, не торопясь, а дома читать до пяти утра, и, проспав весь день, ночью уехать в Москву, на майские праздники, и там, глядя на праздничную толпу, вспоминать демонстрацию, парад в телевизоре с линзой, и погружаться до бесконечности в ощущение праздника прошлого.
В комнате нечем дышать от табачного дыма, и я открываю окно. Холодный воздух влажен и полон неуловимыми, как цвет воды запахами. "Боже мой, какое счастье, что не надо ни с кем говорить!" — думаю я, зажмурившись, и вдруг вспоминаю Наташу, как она подносит сигарету к губам, наклоняя голову к плечу, и, прищурившись, смотрит на меня.
— Лорелея, — шепчу я в серый, нереальный двор, — вам пора замуж!
Я выхожу на улицу, и мысли мои о Наташе постепенно рассеиваются, как тепло их жарко натопленной комнаты в морозную ночь.
Конец апреля. Ленинград. Васильевский остров. Туман в глубине улиц. Что за особое время года эти столичные сумерки, когда город застывает в бесплотном отражении на воде, повисая между небом и землей, когда Нева пахнет только что иссякшим дождем и лижет едва задышавшие отражения фонарей, когда воображение вслед за течением реки уносится на залив, ноги несут тебя на Невский, а на самом деле ты все стоишь на остановке, пропуская троллейбусы, не в силах сделать последние десять шагов и сесть в один из них.
Канун белых ночей в Ленинграде постоянно возвращает меня к одному впечатлению детства, прошедшего под Архангельском.
Отец показывал мне вечером на неисчезающую полосу на горизонте и говорил:
— Там — Ленинград. Там — всегда солнце.
Я смотрел, потом оглядывался в другую сторону, где темно–фиолетовые облака сливались с мраком еле различимого леса, и отец казался мне странным и незнакомым. В словах его чудилось мне сожаление, вызывавшее ревность, и я тянул его домой.
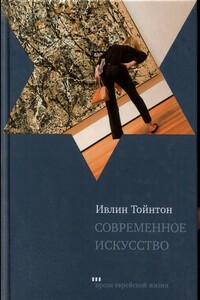
Прототипы героев романа американской писательницы Ивлин Тойнтон Клея Мэддена и Беллы Прокофф легко просматриваются — это знаменитый абстракционист Джексон Поллок и его жена, художница Ли Краснер. К началу романа Клей Мэдден уже давно погиб, тем не менее действие вращается вокруг него. За него при жизни, а после смерти за его репутацию и наследие борется Белла Прокофф, дочь нищего еврейского иммигранта из Одессы. Борьба верной своим романтическим идеалам Беллы Прокофф против изображенной с сатирическим блеском художественной тусовки — хищных галерейщиков, отчаявшихся пробиться и оттого готовых на все художников, мало что понимающих в искусстве нравных меценатов и т. д., — написана Ивлин Тойнтон так, что она не только увлекает, но и волнует.

«Когда быт хаты-хаоса успокоился и наладился, Лёнька начал подгонять мечту. Многие вопросы потребовали разрешения: строим классический фанерный биплан или виману? Выпрашиваем на аэродроме старые движки от Як-55 или продолжаем опыты с маховиками? Строим взлётную полосу или думаем о вертикальном взлёте? Мечта увязла в конкретике…» На обложке: иллюстрация автора.

В этом немного грустном, но искрящемся юмором романе затрагиваются серьезные и глубокие темы: одиночество вдвоем, желание изменить скучную «нормальную» жизнь. Главная героиня романа — этакая финская Бриджит Джонс — молодая женщина с неустроенной личной жизнью, мечтающая об истинной близости с любимым мужчиной.
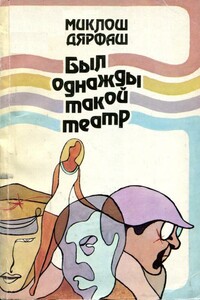
Популярный современный венгерский драматург — автор пьесы «Проснись и пой», сценария к известному фильму «История моей глупости» — предстает перед советскими читателями как прозаик. В книге три повести, объединенные темой театра: «Роль» — о судьбе актера в обстановке хортистского режима в Венгрии; «История моей глупости» — непритязательный на первый взгляд, но глубокий по своей сути рассказ актрисы о ее театральной карьере и семейной жизни (одноименный фильм с талантливой венгерской актрисой Евой Рутткаи в главной роли шел на советских экранах) и, наконец, «Был однажды такой театр» — автобиографическое повествование об актере, по недоразумению попавшем в лагерь для военнопленных в дни взятия Советской Армией Будапешта и организовавшем там антивоенный театр.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На самом деле, я НЕ знаю, как тебе помочь. И надо ли помогать вообще. Поэтому просто читай — посмеемся вместе. Тут нет рецептов, советов и откровений. Текст не претендует на трансформацию личности читателя. Это просто забавная повесть о человеке, которому пришлось нелегко. Стало ли ему по итогу лучше, не понял даже сам автор. Если ты нырнул в какие-нибудь эзотерические практики — читай. Если ты ни во что подобное не веришь — тем более читай. Или НЕ читай.