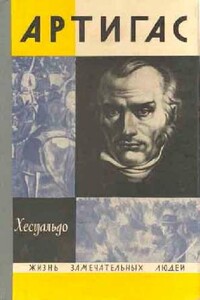Андрей Белый - [4]
Зыбкость и вариативность межтекстовых и внутритекстовых связей в поэтическом наследии Андрея Белого, свидетельствующие о сугубой конвенциональности расположения составных элементов внутри целостного творческого универсума, в значительной мере компенсируются теми формами самореализации этого универсума, которые осуществляются на лексико-эвфоническом уровне. Все творчество Белого может быть осмыслено как многофункциональная система разнообразных повторов и лейтмотивов, и его произведениям в стихах, наряду с «симфониями», эта особенность присуща наиболее наглядным образом. Н. А. Кожевникова отмечает у Белого различные типы лексических и словообразовательных повторов — глаголов в повелительном наклонении («Кропи, кропи росой хрустальною!»), других глагольных форм («Горит заря, горит — И никнет, никнет ниже», «Летит: и летит — и летит»), прилагательных («сухой, сухой, сухой мороз»), существительных («Кидается на грудь, на плечи — Чертополох, чертополох»), наречий («Туда, туда — далеко // Уходит полотно»), прилагательных при меняющихся существительных («Младых Харит младую наготу»), однокоренных глаголов («О, любите меня, полюбите»), однокоренных существительных («Покров: угрюмый кров»), однокоренных слов разных частей речи, образующих тавтологический повтор («дымным дымом», «краснеет красный край»), прилагательных, объединяющих разноплоскостные слова («Старый ветер нивой старой // Исстари летит») и т. д.[8] Зачастую повторы такого рода достигают предельной концентрации, заполняя собою почти все лексическое пространство поэтического текста. Столь же форсированно проводится звуковая организация — стихи перенасыщены внутренними рифмами, ассонансами, аллитерациями, паронимическими сочетаниями (соединениями разнокорневых слов по звуковой близости: «Сметает смехом смерть», «Зарю я зрю — тебя», «И моря рокот роковой»)[9]. Все эти приемы Белый эксплуатировал с безудержной щедростью, порой нарочито-искусственно выстраивая диковинные сочетания слов, и закономерным образом оказывался беззащитным перед критической отповедью: «Смысл иногда улетучивается, слышатся одни звуки»[10]. А. А. Измайлов в статье о книге «Урна» привел полностью стихотворение «Смерть», «до очевидности построенное на подборе однородных звуков, на аллитерациях и внутренней рифмовке», в обоснование своей мысли о том, что «А. Белый не влечет музыку стиха своею мыслью, но сам влечется ею»: «Здесь черновая работа стихотворца почти видна, как в стеклянном колпаке, ясны все его жертвы, принесенные музыке, видно, как ради рифмы и аллитерации он отвлекался в сторону от прямой дороги своей мысли»; «Как это ни странно, — от заботы о крайнем благозвучии один шаг до почти полной какофонии и косноязычия»[11].
Критик был бы безусловно прав в своих претензиях, если бы имел дело с автором, чья художественная мысль полностью вписывалась в сферу логически-дискурсивной семантики. Измайлов говорит о «музыке стиха», но не учитывает того, что в поэтической системе Андрея Белого эта непременная составляющая предполагает совсем особую организацию текста, общий смысл которого не является линейной суммой локализованных значений отдельных лексических единиц, формирующих текст. «Мне музыкальный звукоряд // Отображает мирозданье», — написал Белый в поэме «Первое свидание», и в этих словах — емкая формула того типа творческого мировидения, который находил свое воплощение во всех его произведениях. Изощренная звукопись, неожиданные и прихотливые словесные сцепления, вариации разнообразных повторов — все это формы воплощения определенного надтекстового всеединства, своего рода глоссолалической литургии или «радения», осуществляющегося «в некоем ассоциативном трансе»: «Стихи — кружащийся слововорот в непрестанном потоке звуковых подобий»[12]. Слово для Белого — субстанция текучая, непрестанно видоизменяющаяся; в нем — «буря расплавленных ритмов звучащего смысла»[13]. Этот динамический смысл, раскрывающийся посредством звукописи и лексических повторов, имеет эзотерическую, тайнозрительную природу — в полном согласии с канонами символистского мироощущения. Ю. М. Лотман, предпринявший анализ стихотворения Белого «Буря», насквозь «прошитого» разнообразными повторами (слов, словосочетаний, морфем, фонем), показал, что все они в конечном счете «сливаются как варианты некоторого высшего инварианта смысла», и сделал совершенно справедливый вывод о том, что Белый «ищет не только новых значений для старых слов и даже не новых слов — он ищет другой язык», который был бы способен соответствовать тем сверхэстетическим, «жизнетворческим», теургическим заданиям, которые ставил перед собой символизм: «Слово перестает для него быть единственным носителем языковых значений (для символиста все, что сверх слова, — сверх языка, за пределами слова — музыка). Это приводит к тому, что область значений безмерно усложняется. С одной стороны, семантика выходит за пределы отдельного слова — она „размазывается“ по всему тексту. Текст делается большим словом, в котором отдельные слова — лишь элементы, сложно взаимодействующие в интегрированном семантическом единстве текста: стиха, строфы, стихотворения. С другой — слово распадается на элементы, и лексические значения передаются единицам низших уровней: морфемам и фонемам»
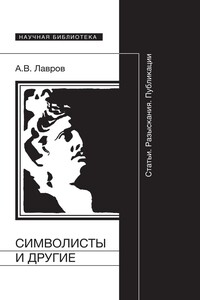
В новую книгу известного историка русской литературы А.В. Лаврова, автора многочисленных статей и публикаций новонайденных материалов, относящихся в основном к деятельности русских символистов, вошли преимущественно работы, публиковавшиеся в последнее десятилетие (в том числе в малодоступных отечественных и зарубежных изданиях). Книгу открывают циклы статей, посвященных поэту-символисту Ивану Коневскому и взаимоотношениям Валерия Брюсова с героинями его любовной лирики. В других работах анализируются различные аспекты биографии и творчества крупнейших писателей XX века (Вяч.
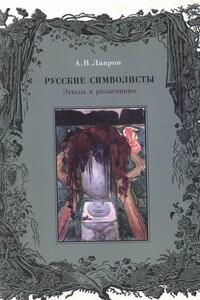
В книгу известного литературоведа вошли работы разных лет, посвященные истории русского символизма. Среди героев книги — З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Вяч. Иванов, И. Коневской, Эллис, С. М. Соловьев и многие другие.
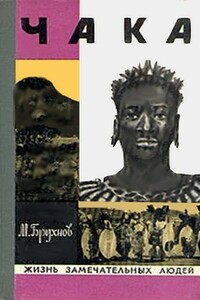
Огромное личное мужество, блестящий организаторский и полководческий талант позволили Чаке, сыну вождя небольшого племени зулу, сломить раздробленность своего народа. Могущественное и богатое государство зулусов с сильной и дисциплинированной армией было опасным соседом для английской Капской колонии. Англичанам удалось организовать убийство Чаки, но зулусский народ, осознавший благодаря Чаке свою силу, продолжал многие десятилетия неравную борьбу с английскими колонизаторами.

Во втором томе Собрания сочинений Игоря Чиннова в разделе "Стихи 1985-1995" собраны стихотворения, написанные уже после выхода его последней книги "Автограф" и напечатанные в журналах и газетах Европы и США. Огромный интерес для российского читателя представляют письма Игоря Чиннова, завещанные им Институту мировой литературы РАН, - он состоял в переписке больше чем с сотней человек. Среди адресатов Чиннова - известные люди первой и второй эмиграции, интеллектуальная элита русского зарубежья: В.Вейдле, Ю.Иваск, архиепископ Иоанн (Шаховской), Ирина Одоевцева, Александр Бахрах, Роман Гуль, Андрей Седых и многие другие.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих В предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.