Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева - [5]
Таким образом, мы видим, что Библейский прототекст, несмотря на довольно-таки узкую степень распространенности в поэме, является необычайно важным в семантическом плане из-за своей насыщенности. В структурной ткани произведения он, преимущественно, занимает сильные позиции. Функционально Библейские парафразы призваны комментировать непонятные фрагменты через отсылку к тексту Библии, что явно не соответствует ни «игровой теории», ни теории юродства. Они организуют ретроспекцию и проспекцию внутри поэмы. Также необходимо отметить, что автор сознательно стремится оживить Библейский текст, подчеркнуть, что он продолжается и в современную эпоху, а не относится к раз и навсегда произошедшим событиям (экзегетическая функция), для чего избегает точного цитирования, снижает стиль, вносит современные конкретизаторы, обращается к фрагментам, напоминающим жанр проповеди.
Ерофеев
С
Библия
1. Разве по Этому тоскует душа моя?
25
…и буду искать того, которого любит душа моя [Песн. П. 3: 2]
2. И весь в синих молниях Господь мне ответил…
25
…облако и мрак окрест Его <…> Молнии его освещают Вселенную. [Пс. 96: 2, 4].
3. О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше Соломона одетые полевые лилии.[20]
33
Взгляните на птиц небесных: они не сеют ни жнут, ни собирают в житницы <…> Посмотрите на полевые лилии <…> и Соломон не одевался так, как всякая из них [Мф. 6: 26–29]
4. Эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица…
38
Но единственная — голубка моя, чистая моя… [Песн. П. 6: 9]
5. Не в радость тебе обратятся эти 13 глотков…
38
1. Парафраз Мф. 26: 20–30.
2. …но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться… [Мк. 14: 21]
6. Младенец, любящий отца, как самого себя, — разве нуждается в жалости?
42
1. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо… [Ис. 20: 12]
2. Возлюби ближнего твоего, как самого себя [Мф. 22: 39].
7. Увидеть ее на перроне, с косой от попы до затылка, и от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться в лежку, и пастись, пастись между лилиями…
44
1. Волосы твои, как стадо коз, что сходит с горы Галаадской [Песн. П. 4: 1]
2. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями [Песн. П. 4: 5].
8. И кроме нас двоих — никого.
45
Возлюбленный мой принадлежит мне, а я — ему; он пасет между лилиями [Песн. П. 2; 16].
9. Это — женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только предчувствия. Это — женщина, у которой никто до меня пульса не щупал.
45
1. Запертый сад — сестра моя, невеста, заключенный колодец… [Песн. П. 4: 12].
2. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды <…>: это сберегла я для тебя, возлюбленный мой [Песн. П. 7: 14].
10. А потом изогнулась, как падла, и начала волнообразные движения бедрами…
45
Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. [Песн. П. 7: 12]
11. …сказала: «Я хочу, чтобы ты властно обнял меня правой рукой».
45
Левая рука у меня под головой, а правой он обнимает меня. [Песн. П. 8: 3]
12. Все, что есть у меня, все, что, может быть, есть — все швыряю на белый алтарь Афродиты.
45
1. Во время старости Соломона, жены его склонили сердце его к иным богам <…> И стал Соломон служить Астарте… [3 Цар. 11: 4–5].
2. За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета Моего и уставов Моих <…> Я отрину у тебя царство… [3 Цар. 11: 10].
13. …и все смешалось: и розы и лилии, и в мелких завитках — весь — влажный и содрогающийся вход в Эдем.
47
Возлюбленный мой простер руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтоб отворить возлюбленному моему, и с перстов моих капала мира на ручки замка [Песн. П. 5: 4–5].
14. …облеку тебя в пурпур и крученый виссон…
47
Золотые подвески сделаем тебе с крапинками серебряными [Песн. П. 1: 11].
15. А жить совсем не скучно. Скучно жить было только Николаю Гоголю и Царю Соломону <…> «человек — смертен» — таково мое мнение. Но уж если мы родились, ничего не поделаешь, надо немного пожить… «Жизнь — прекрасна» — таково мое мнение.
49
Если бы какой человек родил сто детей, и прожил многие годы <…>, но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему погребения, то я сказал бы: выкидыш счастливее его. Потому что он напрасно пришел и отошел во тьму <…> А тот, хотя прожил бы 2000 лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место [Эк. 6: 3–6]…
16. Она, то есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена и перед которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы…
54
Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. [Пс. 13: 1].
17. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный
54
Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. [Мф. 5: 48]
18. Что мне выпить во Имя Твое?
54
Сие творите в мое воспоминание [Лк. 22: 17–19; Мф. 26: 26–28; Мк. 14: 22–25].
19. Пить просто водку, даже из горлышка, — в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты.
55
Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все — суета и томление духа [Ек. 1: 14].
20. …человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и <…> плевать ему в харю и он ничего не скажет.
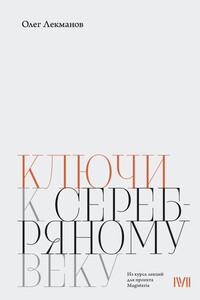
Перед вами сборник лекций известного российского литературоведа, в основе которого – курс, прочитанный в 2017 году для образовательного проекта «Магистерия». Настоящее издание – первое в книжной серии, в которой российские ученые будут коротко и популярно рассказывать о самом важном в истории культуры.
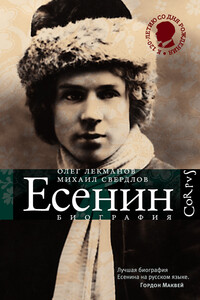
Эта книга о Сергее Есенине (1895–1925) – новый, непредвзятый взгляд на его драматическую судьбу. Здесь подробно исследованы обстоятельства его жизни, в которой порой трудноразличимы миф и реальность, маска и подлинное лицо. Авторы книги – авторитетные филологи, специалисты по литературе русского модернизма – на основе многочисленных документальных свидетельств стремятся воссоздать образ Есенина во всей его полноте. Следуя от раннего детства до трагического финала жизни поэта, они выявляют внутреннюю логику его биографии.

В очередной сборник «Литературный текст: проблемы и методы исследования» вошли статьи, подготовленные на основе докладов, которые прозвучали в октябре 2001 года на Международной конференции «Мотив вина в литературе».
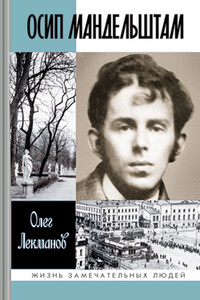
Жизнь Осипа Мандельштама (1891–1938), значительнейшего поэта XX столетия, яркая, короткая и трагическая, продолжает волновать каждое новое поколение читателей и почитателей его таланта. Акмеист в предреволюционное время, он состоял в чрезвычайно сложных отношениях со своим веком. Слава его выплеснулась далеко за пределы России и той эпохи. Итальянский режиссер Пьер Пазолини писал в 1972–м: «Мандельштам… легконогий, умный, острый на язык… жизнерадостный, чувственный, всегда влюбленный, открытый, ясновидящий и счастливый даже в сумерках своего нервного заболевания и политического кошмара… причудливый и утонченный… – принадлежит к числу самых счастливых поэтических прозрений XX века».
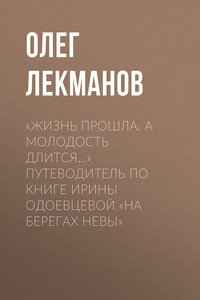
Мемуары Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» читают и перечитывают уже несколько десятилетий, однако загадки и тайны до сих пор не раскрыты. Олег Лекманов – филолог, профессор Высшей школы экономики, написавший книги об Осипе Мандельштаме, Сергее Есенине и Венедикте Ерофееве, – изучил известный текст, разложив его на множество составляющих. «Путеводитель по книге «На берегах Невы» – это диалог автора и исследователя. «Мне всегда хотелось узнать, где у Одоевцевой правда, где беллетристика, где ошибки памяти или сознательные преувеличения» (Дмитрий Быков).В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».