Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева - [10]
В сказах и историях гостей веничкиного «купе» выстраивается модель русского характера, родовой чертой которого является грусть. Русская грусть проистекает от постоянного «позыва к идеалу». Об обретении идеала много рассуждают герои рамы. Он реализуется у русского человека в жалости, в творческой честности, а главное, — в любви к женщине — такой, «как у Тургенева». Спасение возможно только в любви. Отсюда идея воскресения Венички после властного «Талифа куми!» его «белобрысой дьяволицы». Отсюда рассказ декабриста о его приятеле, который мечтал насладиться арфисткой Ольгой Эрдели. Этот сюжет воспринимается как горько-иронический парафраз знаменитого признания пушкинского Вальсингама о ласках «погибшего — но милого созданья». Лаская погибшее, но милое созданье, Председатель обретает успокоение в мечтах о бессмертном духе своей возлюбленной Матильды. Приятель декабриста, мечтавший об Ольге Эрдели, воскрес благодаря «пьяной-пьяной» бабоньке за рупь с балалайкой. Воскрес и «в окошко высунулся». Использование романтического мотива окна в его исконном значении — устремленности к идеалу, очень знаменательно: прорыв к вечным ценностям, к свободе, к полноценности бытия возможен через любовь к женщине. Грустная ирония Ерофеева состоит в том, что бабонька с балалайкой не может быть полноценной заменой арфистки Ольги Эрдели, потому и спасение не может быть полным. Но если для приятеля декабриста открывается окно, то за окном Венички — темно, и к Царице своей он не попал, и спасения не обрел.
Таким образом, цитируя конструкцию «рама — мотив спасения», Ерофеев продолжает пушкинско-романтическую традицию поиска смысла жизни, но значительно обостряет и драматизирует ситуацию невозможности обретения идеала и спасения.
Е. А. Егоров. Развитие гоголевской поэтики в поэме Вен. Ерофеева
Самара
Слово «поэма» применительно к прозаическому тексту неизбежно отсылает к «Мертвым душам» Гоголя. И мимо этого, разумеется, не могли пройти исследователи «Москвы–Петушков»: «Формообразующая роль выпивки заключается у Ерофеева в том, что процесс опьянения героя идет у него рука об руку с расширением того художественного пространства, в котором герой существует и действует, выходом его из узких пределов быта в беспредельный план бытия. Происходит „взрыв“ в мире детерминированной реальности и переход всех его компонентов в некое иное измерение <…> И в этом новом измерении поездка Венички в Петушки оказывается только поводом к безгранично широкой постановке вопроса о смысле и сущности человеческой жизни в объеме всей известной нам истории. Здесь и лежит разгадка так смущающего всех слова „поэма“. Прибавлю, что совершенно аналогично обстоит дело и с „Мертвыми душами“».[32]
Все процитированное, на наш взгляд, абсолютно справедливо, за исключением последней фразы. Проблема в том и заключается, что с «Мертвыми душами» дело обстоит не совершенно аналогично, начиная с того, что в слове «поэма» у Ерофеева есть интертекстуальная отсылка, а у Гоголя — нет, и кончая принципиально иным способом организации лирического начала. Об этом поподробнее.
Действительно, так же, как и у Гоголя, у Ерофеева все описываемые события (причем события подчеркнуто низменного порядка) оказываются в конечном счете поводом к созданию образа переживания, превращая эпическое произведение в лирическое. Но у двух сравниваемых авторов указанная тенденция имеет разную степень выраженности. У Гоголя поглощение эпики лирикой происходит скачкообразно, когда большие отрывки откровенно эпического характера чередуются с так называемыми «лирическими отступлениями».
Здесь нелишне вспомнить концепцию Ю. М. Лотмана, согласно которой проза выступает как «минус-поэзия». «Художественная проза, — пишет Лотман, — возникла на фоне определенной поэтической системы как ее отрицание».[33] Несмотря на то, что Лотман употребляет термины «проза» и «поэзия», речь он ведет фактически о способах художественной организации в эпическом и лирическом родах. В соответствии с логикой этой концепции, «Мертвые души», очевидно, представляют собой уже следующий этап, своего рода «минус-прозу». Различия Гоголя и Ерофеева, если так можно выразиться, в длине этого минуса. У Ерофеева уже чрезвычайно сложно вычленить эпическое повествование и лирические отступления. У Гоголя, несмотря на силу лирического обобщения, еще очень сильны и, безусловно, самоценны, скажем так, «рудименты» эпического стиля, когда происходит «преодоление осколочности современной жизни в некоей истории — фабуле, связанной со схемами коллективного сознания»,[34] когда автор «разрабатывает каждый эпизод в ширину, пространственно — тем самым полагая единство человека с окружающим его миром».[35] Ерофеев же по преимуществу работает в пространстве не физическом, а культурном. «Осколочность современной жизни» преодолевается у него не столько соответствующей фабулой, сколько созданием широкого интертекстуального пространства, в которое помещена эта фабула. Так, в частности, в ходе сюжетного развертывания все отчетливее проступает ориентация фабулы «Москвы–Петушков» на евангельский текст как своего рода инвариант, по отношению к которому бытовая история Венички теряет свое самостоятельное значение. Именно общекультурное, интертекстуальное пространство заполняет в последних главах пустые вагоны электрички. Фабула как будто перестает существовать и превращается в проекцию истории распятия Христа и различных ее переосмыслений.

Эта книга о Сергее Есенине (1895–1925) – новый, непредвзятый взгляд на его драматическую судьбу. Здесь подробно исследованы обстоятельства его жизни, в которой порой трудноразличимы миф и реальность, маска и подлинное лицо. Авторы книги – авторитетные филологи, специалисты по литературе русского модернизма – на основе многочисленных документальных свидетельств стремятся воссоздать образ Есенина во всей его полноте. Следуя от раннего детства до трагического финала жизни поэта, они выявляют внутреннюю логику его биографии.

Перед вами сборник лекций известного российского литературоведа, в основе которого – курс, прочитанный в 2017 году для образовательного проекта «Магистерия». Настоящее издание – первое в книжной серии, в которой российские ученые будут коротко и популярно рассказывать о самом важном в истории культуры.

В очередной сборник «Литературный текст: проблемы и методы исследования» вошли статьи, подготовленные на основе докладов, которые прозвучали в октябре 2001 года на Международной конференции «Мотив вина в литературе».
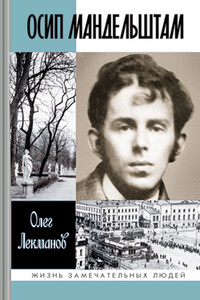
Жизнь Осипа Мандельштама (1891–1938), значительнейшего поэта XX столетия, яркая, короткая и трагическая, продолжает волновать каждое новое поколение читателей и почитателей его таланта. Акмеист в предреволюционное время, он состоял в чрезвычайно сложных отношениях со своим веком. Слава его выплеснулась далеко за пределы России и той эпохи. Итальянский режиссер Пьер Пазолини писал в 1972–м: «Мандельштам… легконогий, умный, острый на язык… жизнерадостный, чувственный, всегда влюбленный, открытый, ясновидящий и счастливый даже в сумерках своего нервного заболевания и политического кошмара… причудливый и утонченный… – принадлежит к числу самых счастливых поэтических прозрений XX века».

Мемуары Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» читают и перечитывают уже несколько десятилетий, однако загадки и тайны до сих пор не раскрыты. Олег Лекманов – филолог, профессор Высшей школы экономики, написавший книги об Осипе Мандельштаме, Сергее Есенине и Венедикте Ерофееве, – изучил известный текст, разложив его на множество составляющих. «Путеводитель по книге «На берегах Невы» – это диалог автора и исследователя. «Мне всегда хотелось узнать, где у Одоевцевой правда, где беллетристика, где ошибки памяти или сознательные преувеличения» (Дмитрий Быков).В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В своей речи по случаю присуждения ему Нобелевской премии, произнесенной 7 декабря 1999 года в Стокгольме, немецкий писатель Гюнтер Грасс размышляет о послевоенном времени и возможности в нём литературы, о своих литературных корнях, о человечности и о противоречивости человеческого бытия…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.