Алеша, Алексей… - [4]
Юрка носил значок «Ворошиловского стрелка» и участвовал в студенческих стрелковых соревнованиях. Я тоже два раза в неделю ездил в университетский тир. Военрук, больной, с желтым лицом и, как мне тогда казалось, совсем старый человек, из уважения к Юрке давал мне стрелять из мелкокалиберной винтовки. Я любил стрелять, и получалось, в общем-то, неплохо, но у меня быстро уставал глаз. С пятого-шестого выстрела я начинал мазать. И все же я честно заработал значок. Значок этот имел для меня глубокий смысл: никак не хотелось в грядущей схватке быть ничтожным дрожащим кроликом. Если уж драться, так драться…
Теперь насчет глаза. Это несчастье случилось летом, между пятым и шестым классами. В ту пору мы с Юркой увлеклись рыбалкой. Как замечательно было вставать чуть свет, подавляя зябкую дрожь, копать червей на свалке, готовить крючки, удочки и идти в Затон. Здесь уже стояли на плотах заядлые рыбаки. Среди них встречались старики в соломенных шляпах, в очках, с курительными трубками, которые они не выпускали изо рта. И вот странность: у них рыба ловилась, а у нас нет. Почему — до сих пор для меня остается загадкой. В Затоне-то мы и встретились с чужими пацанами. Нас было двое, а их налетело пятеро. Сперва, как это всегда бывает, они «духовились», то есть задирались, а потом стали отнимать удочки. В общем, нам здорово досталось, но это все ерунда. Хуже другое — в свалке кто-то саданул мне обломком удилища в глаз, и я потерял сознание. Чужие пацаны разбежались, а Юрка кое-как дотащил меня до лодочной базы «Автодор», где был телефон, и вызвал «скорую». Глаз удалось спасти в том смысле, что он у меня не стеклянный, а свой. Конечно, мне повезло — издали ничего не заметно, только шрам на левом веке, ну, а сам-то глаз ничего не видит. Тогда я пролежал в больнице целый месяц, и на Украину к Филатову меня мама возила, но не помогло. И почему-то один глаз влиял на другой: левый не видел, а здоровый правый быстро уставал при стрельбе и при чтении. Из-за этого недостатка я в старших классах сторонился девчонок, сознавал, что на сколько-то процентов не такой, как все.
Я написал «сторонился», а все-таки возраст диктовал свое. Честно говоря, мы с Юркой были какие-то невезучие. У него Нонка последние три года — явно не подарок судьбы, а до того мы с ним дружно были влюблены в Раю Бахметьеву. Рая — это, конечно, нечто несерьезное, однако, хотя и несерьезное, я по-своему, по-детски, что-то по этому поводу переживал. А началось еще в четвертом классе. Рая сидела слева от меня, на второй парте. И мальчишки, и девчонки надевали в школу тогда что придется, только Раю, единственную во всей школе, родители одевали в настоящую форму — коричневое платьице с белым кружевным воротничком и черный фартучек. Этим она выделялась изо всех. И однажды меня словно осенило — какая же Рая красивая! В тот момент она внимательно слушала учительницу, слегка склонив голову, солнце освещало ее волосы, и потому вокруг головы сиял золотистый ореол. Слово «любовь» не пришло мне тогда в голову, но я почувствовал, что какими-то незримыми нитями привязан к этой девочке. То же самое, оказывается, случилось и с Юркой. В результате мы вместе стали провожать Раю из школы вниз по Армянской почти до самого дома.
Был в классе у нас мальчишка из военного городка, года на два старше нас. Случалось, он приносил в школу разные «открыточки», и мы с интересом их разглядывали, только все это никак не касалось Раи. Она была особенная.
Помню, Рая училась музыке. Иногда я встречал ее вечером с нотной папкой на черных шелковых шнурах, а на папке был вытиснен профиль какого-то великого музыканта. И с этой папкой Рая шла по улице совсем иначе, чем из школы со своим ранцем. На нем можно было кататься с горы, как на санках, им можно было драться. Ранцы были у всех, а нотные папки только у «музыкальных» девочек. Может быть, существовали на свете и «музыкальные» мальчики, но они не ходили с такими важными папками и потому были незаметны.
Когда Рая шла с папкой, походка у нее становилась степенной не по возрасту. По всей вероятности, Рая еще играла в куклы, но нам она казалась существом недосягаемо возвышенным.
Дома я у нее никогда не был. Знал только, что отец ее работал пекарем на фабрике имени Стружкина, мать — портнихой.
Наше детское увлечение продолжалось до самого восьмого класса, до того момента, когда Рая вдруг бросила школу и вышла замуж. По нашим представлениям, это была такая непроходимая глупость, что Рая сразу и навсегда поблекла в наших глазах.
Иное дело Шурочка, но об этом потом…
…А еще я плавал. Вот здесь мне ничто не мешало — ни покалеченный глаз, ни моя дурацкая застенчивость. Весь июнь, июль и август я ежедневно переплывал на Казачий остров, ложился на горячий песок, смотрел в небо и думал, как чудесно было бы жить на этом свете, если б не было Гитлера с его бандитской сворой. И в мечтах моих я уносился так далеко, что об этом даже смешно вспоминать. Казачий остров — место тихое, немодное — сюда не заглядывали ни купальщики, ни рыболовы. Много-много лет спустя вспоминались песок, вода, крики чаек, шум узких листьев тальника под ветром. Здесь не сохранялись даже человеческие следы, потому что все заметал и выравнивал ветер. И нельзя сказать, чтоб я не понимал своего тогдашнего счастья. Все я понимал.
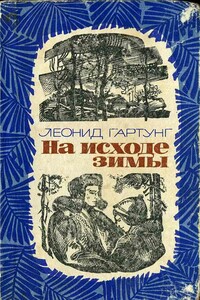
В книгу пошли повесть «На исходе зимы» и рассказы: «Как я был дефективным», «„Бесприданница“» и «Свидание».
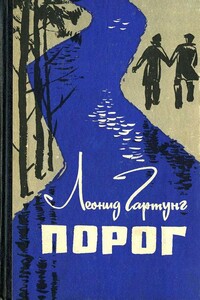
В центре повести Леонида Гартунга «Порог» — молодая учительница Тоня Найденова, начинающая свою трудовую жизнь в сибирском селе.
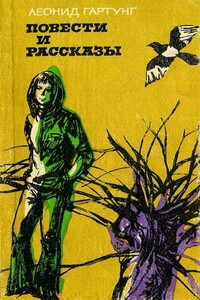
Член Союза писателей СССР Леонид Гартунг много лет проработал учителем в средней школе. Герои его произведений — представители сельской интеллигенции (учителя, врачи, работники библиотек) и школьники. Автора глубоко волнуют вопросы морали, педагогической этики, проблемы народного образования и просвещения.
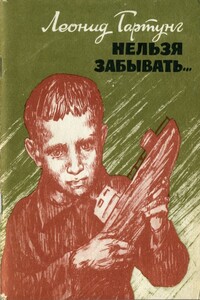
Повесть о военном детстве сибирского мальчика, о сложных трагических взаимоотношениях взрослых, окружавших героя повести.
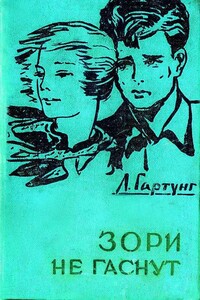
В центре повести Леонида Гартунга «Зори не гаснут» — молодой врач Виктор Вересов, начинающий свою трудовую жизнь в сибирском селе. Автор показывает, как в острой борьбе с темными силами деревни, с людьми — носителями косности и невежества, растет и мужает врач-общественник. В этой борьбе он находит поддержку у своих новых друзей — передовых людей села — коммунистов и комсомольцев.В повести, построенной на острых личных и общественных конфликтах, немало драматических сцен.На глубоком раскрытии судеб основных героев повести автор показывает трагическую обреченность тех, кто исповедует философию «жизни только для себя».
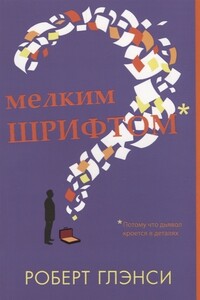
Фрэнклин Шоу попал в автомобильную аварию и очнулся на больничной койке, не в состоянии вспомнить ни пережитую катастрофу, ни людей вокруг себя, ни детали собственной биографии. Но постепенно память возвращается и все, казалось бы, встает на свои места: он работает в семейной юридической компании, вот его жена, братья, коллеги… Но Фрэнка не покидает ощущение: что — то в его жизни пошло не так. Причем еще до происшествия на дороге. Когда память восстанавливается полностью, он оказывается перед выбором — продолжать жить, как живется, или попробовать все изменить.
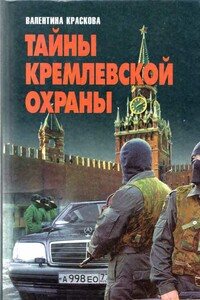
Эта книга о тех, чью профессию можно отнести к числу древнейших. Хранители огня, воды и священных рощ, дворцовые стражники, часовые и сторожа — все эти фигуры присутствуют на дороге Истории. У охранников всех времен общее одно — они всегда лишь только спутники, их место — быть рядом, их роль — хранить, оберегать и защищать нечто более существенное, значительное и ценное, чем они сами. Охранники не тут и не там… Они между двух миров — между властью и народом, рядом с властью, но только у ее дверей, а дальше путь заказан.
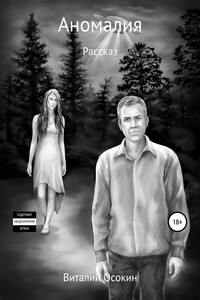
Тайна Пермского треугольника притягивает к себе разных людей: искателей приключений, любителей всего таинственного и непознанного и просто энтузиастов. Два москвича Семён и Алексей едут в аномальную зону, где их ожидают встречи с необычным и интересными людьми. А может быть, им суждено разгадать тайну аномалии. Содержит нецензурную брань.
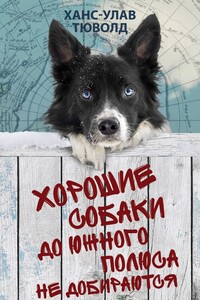
Шлёпик всегда был верным псом. Когда его товарищ-человек, майор Торкильдсен, умирает, Шлёпик и фру Торкильдсен остаются одни. Шлёпик оплакивает майора, утешаясь горами вкуснятины, а фру Торкильдсен – мегалитрами «драконовой воды». Прежде они относились друг к дружке с сомнением, но теперь быстро находят общий язык. И общую тему. Таковой неожиданно оказывается экспедиция Руаля Амундсена на Южный полюс, во главе которой, разумеется, стояли вовсе не люди, а отважные собаки, люди лишь присвоили себе их победу.
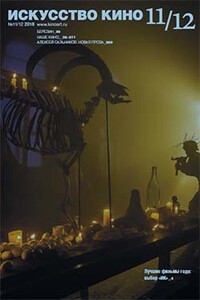
Новелла, написанная Алексеем Сальниковым специально для журнала «Искусство кино». Опубликована в выпуске № 11/12 2018 г.
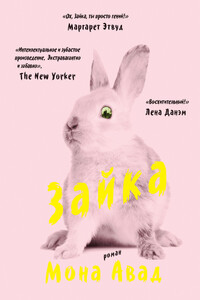
Саманта – студентка претенциозного Университета Уоррена. Она предпочитает свое темное воображение обществу большинства людей и презирает однокурсниц – богатых и невыносимо кукольных девушек, называющих друг друга Зайками. Все меняется, когда она получает от них приглашение на вечеринку и необъяснимым образом не может отказаться. Саманта все глубже погружается в сладкий и зловещий мир Заек, и вот уже их тайны – ее тайны. «Зайка» – завораживающий и дерзкий роман о неравенстве и одиночестве, дружбе и желании, фантастической и ужасной силе воображения, о самой природе творчества.
