Алексиада - [5]
На то, что в действительности происходило в те дни, бросают свет сообщения других писателей, главным образом Зонары и Никиты Хониата[29].
При дворе действовали две партии: императрицы Ирины (к ней, по-видимому, примыкал ее сын Андроник[30]), стремившейся обеспечить власть за Анной и ее мужем Никифором Вриеннием, и партия пользовавшегося покровительством Алексея Иоанна, который привлек на свою сторону брата Исаака. Решающая битва развернулась в покоях умирающего императора. Враждующие партии буквально вырывали друг у друга корону, обстановка накалилась до предела, и вопрос о престолонаследии решали минуты. Этим и объясняются быстрые и решительные действия Иоанна, который, не дожидаясь смерти отца, занял Большой дворец и провозгласил себя императором. Так у власти оказался сын Алексея Иоанн, а не Анна или Никифор[31].
Не истек и год после смерти отца, как Анна предпринимает новую попытку добиться власти[32]. Был составлен заговор с целью убить Иоанна и посадить на престол Никифора Вриенния. И хотя все было хорошо подготовлено, переворот не удался, так как в последний момент дезертировал сам претендент на трон Никифор Вриенний. Никита Хониат со смаком описывает, в каких отборных выражениях ругала Анна мужа за слабохарактерность. Хониат прямо называет Анну «главной устроительницей» (πρωτεργάτις) заговора.
На этом заканчивается придворная жизнь Анны. Иоанн не стал сурово наказывать сестру, даже возвратил ей конфискованное имущество[33], но Анне вместе с сестрой Евдокией и матерью пришлось уйти в монастырь. Вриенний же остался при дворе и, судя по рассказу самой Анны (см. Введ., 3, стр. 54), {16} играл немалую роль среди приближенных Иоанна. Сохранился составленный от имени Ирины типик константинопольского монастыря Благодатной богородицы[34], куда удалились опальные женщины[35]. Судя по этому типику, императрица-мать вместе с Анной, Марией и дочерью Анны Ириной (Евдокия ко времени составления этой части типика умерла) жили в роскошных покоях, примыкавших к монастырю. В их распоряжении находилось движимое и недвижимое имущество, им прислуживала мужская и женская челядь.
К этому периоду жизни Анны относится письмо к ней известного византийского ученого и писателя Иоанна Цеца[36], который просит у нее защиты от некоего адрианопольского еретика Цуриха. Примечателен сам по себе факт обращения к Анне одного из известнейших ученых того времени и то, что заточенная в монастырь принцесса, по мнению Цеца, может оказать ему покровительство.
Важные сведения об этой поре жизни Анны узнаем мы из монодии Торника: удалившаяся в монастырь принцесса приняла монашество только накануне смерти[37]. Но что самое интересное: вокруг Анны сгруппировался кружок философов, занятия которых она направляла и, возможно, оплачивала. По ее инициативе ученые — а среди них и знаменитый Михаил Эфесский — комментировали труды Аристотеля. Сама Анна тоже усердно занималась философией и историей, а отдыхая, «плакала над трагедиями и смеялась над комедиями»[38].
Рисует Торник и внешность Анны. Портрет этот, конечно, стилизован, но в нем есть и живые детали: отливающие синевой глаза, твердый и в то же время живой взор, изогнутые, как лук, брови, прямой, слегка загибающийся внизу нос, розовые ланиты, подобные лепесткам розы губы, лицо круглое, {17} фигура, напоминающая лиру или кифару. Описание выдержано в выспренних тонах, характерных для риторики того времени, и нет никакой гарантии, что за всем этим не скрывается розовощекая старушка с крючковатым носом.
Сама Анна непрерывно жалуется на свою участь изгнанницы, говорит о «нелепом положении», в котором она оказалась по воле властителей, когда «видеть ее никто не может, а ненавидят многие» (XIV, 7, стр. 393), глухо упоминает о ненависти, которую она навлекла на себя своей любовью к отцу (XV, 3, стр. 405).
Дата смерти Анны неизвестна. Из «Алексиады» можно лишь понять, что в 1148 г. она была еще жива[39]. Анализируя речь Торника, Р. Браунинг[40] делает вывод, что Анна умерла между 1153 и 1155 гг. К сожалению, соответствующий раздел монодии не опубликован, и мы не имеем возможности проверить утверждения английского ученого. Известие о смерти опальной принцессы, видимо, не вызвало никакого сожаления во дворце, во всяком случае Торник утверждает, что он решил почтить ее память по собственной инициативе[41].
У Анны и Никифора было четверо детей: двое сыновей (Алексей и Иоанн) и две дочери (одну из них звали Ирина, имя другой неизвестно[42]).
Труд Анны дает нам представление об интересах и образовании его автора. Философия, теология, риторика, грамматика, литература, астрология, медицина и даже военное дело — вот далеко не полный перечень наук, так или иначе привлекавших внимание писательницы. Анна знакома с сочинениями Платона, Аристотеля, Софокла, Еврипида, Аристофана, Геродота, Фукидида, Полибия, Плутарха, Порфирия, Демосфена, Иоанна Епифанийского, Феофилакта Симокатты, Михаила Пселла и др. Не говорим уже о Гомере и Священном писании, цитатами из которых пестрят страницы «Алексиады». Даже ошибки, подчас встречающиеся в этих цитатах, свидетельствуют в пользу писательницы: они говорят о том, что она цитирует по памяти. Анну Комнину можно безусловно причислить к образованнейшим людям своего времени

Небольшая книга об освобождении Донецкой области от немецко-фашистских захватчиков. О наступательной операции войск Юго-Западного и Южного фронтов, о прорыве Миус-фронта.

В Новгородских писцовых книгах 1498 г. впервые упоминается деревня Струги, которая дала название административному центру Струго-Красненского района Псковской области — посёлку городского типа Струги Красные. В то время существовала и деревня Холохино. В середине XIX в. основана железнодорожная станция Белая. В книге рассказывается об истории этих населённых пунктов от эпохи средневековья до нашего времени. Данное издание будет познавательно всем интересующимся историей родного края.

У каждого из нас есть пожилые родственники или знакомые, которые могут многое рассказать о прожитой жизни. И, наверное, некоторые из них иногда это делают. Но, к сожалению, лишь очень редко люди оставляют в письменной форме свои воспоминания о виденном и пережитом, безвозвратно уходящем в прошлое. Большинство носителей исторической информации в силу разнообразных обстоятельств даже и не пытается этого делать. Мы же зачастую просто забываем и не успеваем их об этом попросить.

Клиффорд Фауст, профессор университета Северной Каролины, всесторонне освещает историю установления торговых и дипломатических отношений двух великих империй после подписания Кяхтинского договора. Автор рассказывает, как действовали государственные монополии, какие товары считались стратегическими и как разрешение частной торговли повлияло на развитие Восточной Сибири и экономику государства в целом. Профессор Фауст отмечает, что русские торговцы обладали не только дальновидностью и деловой смёткой, но и знали особый подход, учитывающий национальные черты характера восточного человека, что, в необычайно сложных условиях ведения дел, позволяло неизменно получать прибыль и поддерживать дипломатические отношения как с коренным населением приграничья, так и с официальными властями Поднебесной.

Эта книга — первое в мировой науке монографическое исследование истории Астраханского ханства (1502–1556) — одного из государств, образовавшихся вследствие распада Золотой Орды. В результате всестороннего анализа русских, восточных (арабских, тюркских, персидских) и западных источников обоснована дата образования ханства, предложена хронология правления астраханских ханов. Особое внимание уделено истории взаимоотношений Астраханского ханства с Московским государством и Османской империей, рассказано о культуре ханства, экономике и социальном строе.

Яркой вспышкой кометы оказывается 1918 год для дальнейшей истории человечества. Одиннадцатое ноября 1918 года — не только последний день мировой войны, швырнувшей в пропасть весь старый порядок. Этот день — воплощение зародившихся надежд на лучшую жизнь. Вспыхнули новые возможности и новые мечты, и, подобно хвосту кометы, тянется за ними вереница картин и лиц. В книге известного немецкого историка Даниэля Шёнпфлуга (род. 1969) этот уникальный исторический момент воплощается в череде реальных судеб: Вирджиния Вулф, Гарри С.
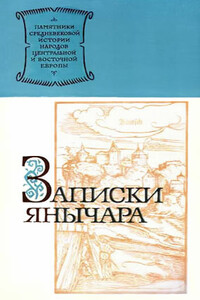
В увлекательной форме автор «Записок янычара» Константин Михайлович из Островицы, серб по происхождению, повествует о своих приключениях в турецком плену, о быте, жизни, обычаях турецкого населения, о борьбе славянских народов против завоевателей. Интересно даны жизнеописание автора, его рассказы о головокружительной карьере в рядах турецкой армии.Книга — не только источник по средневековой истории, но и прекрасное литературное произведение.