Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского - [26]
«Иванов» во МХАТе открывал новое понимание Чехова, осторожный, бережный подход к Чехову-классику, где главным оказывалось стремление «не смять» резкой трактовкой авторские акценты. Ефремов открывал «Иванова» как пьесу метафизическую:
«Пьеса о смерти, о разрушительных тенденциях в природе человека.
Крик о том, как все мы бездуховно живем, и думаем, что живем».
В интервью конца 90-х Ефремов вспомнит, как, поехав в Ленинград, он остановился в новой квартире Александра Володина: «Полный кавардак, на дверях еще нет ручек. Мы с хозяином крепко выпили, и он меня уложил спать в какой-то комнате. А у меня была в тот момент по жизни какая-то пиковая, безвыходная ситуация: не разрешали ставить пьесы, которые хотелось, шла катавасия в «Современнике». Словом, был такой сгусток всего. Ночью проснулся, очнулся, надо было выйти. Подошел, ищу дверь, а ручек-то нет. В темноте вожу руками по стенам. А комната была еще не обставленная, пустая. Когда обшарил все, то вдруг отчетливо понял, что я в тюрьме, в камере. И почувствовал себя счастливым. Я подумал: «Господи, ну кончились все мытарства…». Мне не надо ничего делать, не надо дергаться. Я вдруг освободится. Вот именно в тюрьме, в камере я ощутил себя свободным, и какой-то невероятно счастливый заснул… Потому что больше всего человек устает от ответственности».
Кажется, что рассказанный эпизод собственной жизни вполне мог стать лирическим мостком к «уставшему» чеховскому герою, надорвавшемуся от взваленной на себя ответственности и нашедшему выход в самоубийстве. Выход в смерть был Ефремову понятен, как была близка и понятна усталость от самим же взваленного груза, усталость от окруживших, чего-то требующих и ждущих от тебя людей, которым нечего дать (несколько лет спустя Ефремов сыграет Зилова в «Утиной охоте» — вариант тех же проблем на современном материале).
Когда-то сурово осудивший героев «Чайки», Ефремов взял Николая Иванова под защиту. Прежде всего от актера, который Иванова должен был играть. В отличие от Мышкина, Гамлета, царя Федора, Иванов не слишком импонировал Смоктуновскому. В опубликованных стенограммах репетиций, ведшихся Г. Ю. Бродской, сохранились диалоги артиста с Олегом Ефремовым: «Иванов — чудовище, звероящер». И далее: «Как вызвать симпатию к нему? Этот материал непреодолим». Ефремов предложил: «Доказывай, что он чудовище. А я буду доказывать, что нет». Встреча двух подходов, двух отношений и пониманий образа давала необходимый объем, далекий от простого деления на «хорошего» и «плохого» человека.
Ефремов ставил спектакль о драме крупного человека, особенного, уникального. Спектакль шаг за шагом исследовал путь, по которому прошел Иванов, вплоть до самоубийства. Перед артистом стояла задача прожить каждый поворот этого пути, едва заметные остановки, мгновения передышки, те внутренние и внешние толчки, которые подталкивали или отклоняли его героя от финального выстрела.
Тетрадка роли Иванова исписана с редкой даже для Смоктуновского плотностью. Разными ручками (синими, голубыми, черными), карандашом. Исписана на полях, на обложке, на обороте. Фразы идут одна за другой, иногда написаны вертикально, иногда набросаны наспех под утлом. В отличие от режиссерских экземпляров, актерские тетрадки Смоктуновского отнюдь не подразумевают цельное решение как отдельных сцен, так и роли в целом.
Смоктуновский как бы «рыхлит почву» роли, разминает ее. Фразы кидаются как зерна в землю: что-то пропадет, что-то прорастет. Иногда записи касаются предельно конкретного состояния героя в данный момент, иногда это размышления общефилософского характера, иногда это подходящая цитата или стихотворение, найденное по созвучию с душевной жизнью его персонажа. Самый ритм фраз диктует напряженность этой душевной жизни.
Метод работы над ролью Смоктуновского можно назвать «методом Плюшкина»: как легендарный гоголевский герой, артист аккуратно собирает все мельчайшие частички, детальки, подробности, накапливая груду разнородного и причудливого материала. Роль не столько «высекается», сколько складывается. И складывается не из цельных фрагментов, кусков, решенных сцен, а из мозаичных кусочков, прослаивается какими-то почти незаметными ингредиентами. Смоктуновский «рисует» своего героя импрессионистическими мазками; воздухом вокруг создается впечатление «объема», насыщенности, движения, постоянной вибрации. Напряженная душевная жизнь, мимолетные мысли, капризы, прихотливые изменения чувств, разнородных ощущений — все это Смоктуновский фиксирует с дотошной тщательностью, оставляя за пределами тетради все мизансценические подробности, всю партитуру жестов. Обладая, по свидетельству работавших с ним режиссеров, необыкновенной памятью на мизансцены, Смоктуновский никогда не фиксировал их в своих записях. Так же как не фиксировал найденные жесты, мимику, интонации. Как и в «Царе Федоре», практически нет записей: откуда вышел, куда сел, что держит в руках. Роль строится и запоминается не по мизансценам, не по партитуре жестов. Роль строится развитием внутренней логики характера, точнейшим образом расписанной «нотной записью» мелодии душевной жизни.
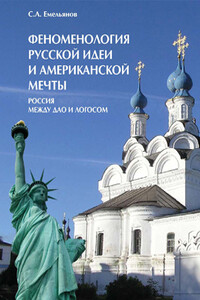
В работе исследуются теоретические и практические аспекты русской идеи и американской мечты как двух разновидностей социального идеала и социальной мифологии. Книга может быть интересна философам, экономистам, политологам и «тренерам успеха». Кроме того, она может вызвать определенный резонанс среди широкого круга российских читателей, которые в тяжелой борьбе за существование не потеряли способности размышлять о смысле большой Истории.

Дворец рассматривается как топос культурного пространства, место локализации политической власти и в этом качестве – как художественная репрезентация сущности политического в культуре. Предложена историческая типология дворцов, в основу которой положен тип легитимации власти, составляющий область непосредственного смыслового контекста художественных форм. Это первый опыт исследования феномена дворца в его историко-культурной целостности. Книга адресована в первую очередь специалистам – культурологам, искусствоведам, историкам архитектуры, студентам художественных вузов, музейным работникам, поскольку предполагает, что читатель знаком с проблемой исторической типологии культуры, с основными этапами истории архитектуры, основными стилистическими характеристиками памятников, с формами научной рефлексии по их поводу.
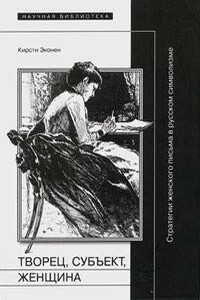
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Источник: "Памятники средневековой латинской литературы X–XII веков", издательство "Наука", Москва, 1972.