Абсент - [4]
Алистер Кроули защищал абсент. Это неудивительно, ведь он был самым плохим человеком в мире. За более непредвзятым суждением мы обратимся к Джорджу Сентсбери (1845-1933), который был некогда известным английским критиком. Откровенно ориентируясь на удовольствие как главный критерий литературной оценки, он был мастером того критического стиля, который можно сравнить с дегустацией вин. «Социальная миссия английской критики» его не привлекала, совесть — не мучила, и ему представлялось, что самое высокое, райское блаженство — читать Бодлера, пока маленькие дети чистят каминные трубы. Джордж Оруэлл упоминает Сентсбери в «Дороге к причалу Виган Пир», двусмысленно восхищаясь его политическими убеждениями. «Нужно много храбрости, — говорит он, — чтобы открыто быть таким подлецом».
Похожий на мандарина бородатый старик в очках, Сентсбери славился огромной эрудицией, странными, но блестящими суждениями (Пруст, например, напоминал ему Томаса де Квинси) и феноменально запутанным синтаксисом. Для потомства сохранился такой его отрывок: «Никто, кроме них, не сделал и не мог бы сделать ничего подобного, но было много такого, чего — могли они это сделать или нет, никто из них не совершил».
Сентсбери так хорошо разбирался в винах и других напитках, что в гедонистические 20-е годы в его честь назвали общество, которое существует по сей день («Saintsbury Society»). Перед смертью он особенно настаивал, чтобы никто и никогда не писал его биографии. Что он скрывал? Этого мы не знаем. Но в отрывке из главы о ликерах его известной «Книги погреба» он пишет об абсенте:
…Прежде, чем завершить эту короткую главу, я хотел бы сказать несколько слов о самом злом, как думают многие, напитке этого племени — «зеленой музе», воде Звезды Полынь, из-за которой погибли многие. Это Absinthia taetra, заслуживающая, по всеобщему мнению, много худшего эпитета, чем тот, который употребил величайший из римских поэтов [7]. Я полагаю (хотя со мной это не случалось), что абсент причинил много вреда. Его главный элемент слишком силен, если не слишком ядовит, чтобы позволить ему неразборчиво и мощно воздействовать на человеческое тело. Я думаю, он всегда был слишком крепким, и никто, кроме сумасшедших, которыми, как считается, он нас и делает, и тех, кому сумасшествие предначертано, не станет пить его в чистом виде «…»
Человек, пьющий неразбавленный абсент, заслужил свою судьбу, какой бы она ни была. Вкус сгущен до омерзения, спирт жжет, «как факельная процессия», — словом, только сверхъестественно сильная или обреченная роком голова не будет после этого болеть.
И еще по одной причине лучше пить абсент разбавленным: иначе вы потеряете почти наркотическую прелесть особого ритуала — «все церемонии и весь этикет правильного питья, пленительные для человека со вкусом». Позднее мы подробнее расскажем о различных способах приготовления абсента, однако метод Сентсбери описан с особой любовью.
Поставьте рюмку с ликером в стакан с самым плоским дном, какой только сможете найти, и осторожно наливайте в абсент воду (или прикажите, чтобы наливали) так, чтобы смесь переливалась через край в стакан. Темный изумрудный цвет чистого ликера, нежно клубясь, сначала превращается в то, что было бы цветом звездного смарагда [8], если бы Всемогущий пожелал завершить квартет звездных камней…
Здесь мы должны ненадолго прервать странного старика. Он собирается сказать, что смотреть, как чистый абсент становится мутным, очень приятно, но, прежде чем добраться до этого, делает отступление о своей любви к драгоценностям и редкости «звездных драгоценностей».
Звездных камней, говорит он в своей сладострастной сноске,
…пока лишь три — сапфир (встречается он довольно часто), рубин (пореже) и топаз, которого я никогда не видел, а старый синьор Джулиано, одаривший меня по своей доброте множеством хороших бесед в обмен на очень скромные покупки, видел, по его словам, только раза два. Но обычный изумруд в форме кабошона очень точно являет одну из стадий разбавления абсента.
Ну, что ж. Ему нравится, как абсент превращается сначала в изумруд, потом в опал, который, по ходу дела, исчезает; и когда в рюмке нет ничего, кроме чистой воды, а напиток готов, и запах его, и вкус даруют нам поразительное сочетание — они и освежают, и услаждают. Что говорить, это очень приятно. Как к многим приятным вещам, тут нетрудно пристраститься. Сам я никогда не пил больше рюмки в день.
Это занятное свидетельство отмечает несколько особых свойств, с каждым из которых мы еще встретимся, — крепость абсента, его дурную славу, его связь с ритуалом и нерасторжимый союз с эстетизмом.
Корелли — против абсента, Кроули — за него, Сентсбери изящно, даже изысканно уравновешен. Но для каждого из них, живших в золотую пору этого напитка, он уже был каким-то мифическим веществом.
Рассуждая о самой идее «совершенного напитка», Ролан Барт полагает, что он должен быть «богат разнообразнейшими метонимиями», то есть символическими заменами вроде «часть вместо целого» или «вершина айсберга», по которым узнаешь, почему мы чего-то хотим. Люди, приверженные Шотландии, могут пить шотландский виски; те, кто верит в пресуществление, могут пить кровь Христову; а пьющим вино радостно думать о винограде, солнечном свете, доброй почве и многом другом. Когда Ките хочет вина в «Оде к соловью», он ищет в нем вкуса «Флоры и зелени сельской / пляски, французской песни, лиц загорелых. / О, полный сосуд жаркого юга!». Немного похоже на рекламу.
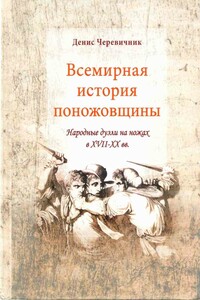
Вниманию читателей предлагается первое в своём роде фундаментальное исследование культуры народных дуэлей. Опираясь на богатейший фактологический материал, автор рассматривает традиции поединков на ножах в странах Европы и Америки, окружавшие эти дуэли ритуалы и кодексы чести. Читатель узнает, какое отношение к дуэлям на ножах имеют танго, фламенко и музыка фаду, как финский нож — легендарная «финка» попал в Россию, а также кто и когда создал ему леденящую душу репутацию, как получил свои шрамы Аль Капоне, почему дело Джека Потрошителя вызвало такой резонанс и многое, многое другое.
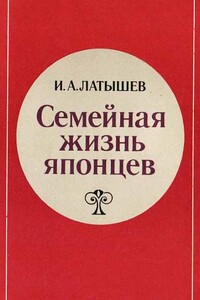
Книга посвящена исследованию семейных проблем современной Японии. Большое внимание уделяется общей характеристике перемен в семейном быту японцев. Подробно анализируются практика помолвок, условия вступления в брак, а также взаимоотношения мужей и жен в японских семьях. Существенное место в книге занимают проблемы, связанные с воспитанием и образованием детей и духовным разрывом между родителями и детьми, который все более заметно ощущается в современной Японии. Рассматриваются тенденции во взаимоотношениях японцев с престарелыми родителями, с родственниками и соседями.
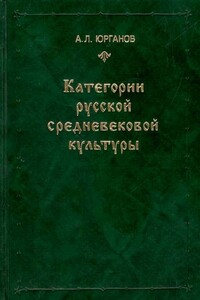
В монографии изучается культура как смыслополагание человека. Выделяются основные категории — самоосновы этого смыслополагания, которые позволяют увидеть своеобразный и неповторимый мир русского средневекового человека. Книга рассчитана на историков-профессионалов, студентов старших курсов гуманитарных факультетов институтов и университетов, а также на учителей средних специальных заведений и всех, кто специально интересуется культурным прошлым нашей Родины.

Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.

Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.

«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.