Абсент - [6]
(Роскошно украшенная дароносица — часть католической церковной утвари, вроде реликвария, где хранится для поклонения пресуществленная гостия.) Джонсон был одним из основателей и членов Клуба стихотворцев, группы поэтов, которая встречалась в кафе «Старый чеширский сыр» на Флит-стрит. Туда входили Ле Гальен, Доусон, Артур Саймоне и У.Б. Йейтс, большой поклонник Джонсона. Джонсон был типичен для fin-de-siecle, но настоящим декадентом его назвать нельзя, как показывает его резкое эссе о декадансе «Образованный фавн» (опубликовано в «Антиякобинце», 1891).
Во-первых, пишет он, настоящий декадент должен быть строго одет (совершенно как Уильям Бэрроуз в его «деловом костюме», или Т.С. Элиот; Обри Бердсли одевался, как сотрудник страховой компании, где он какое-то время и работал). Далее, по Джонсону, декадент должен быть нервным и циничным, любить католические ритуалы и, самое главное, преклоняться перед красотой, даже если у жизни есть жесткие, ужасные стороны, скажем — пристрастие к абсенту.
Наш герой должен культивировать обнадеживающую строгость привычек, даже быть чуть-чуть денди. Он чужд блуждающих взглядов, тщательно продуманного беспорядка, величественного безумия его предшественника, «апостола культуры». Итак, аккуратный вид, внутри же — католическое сочувствие ко всему, что существует, «а значит» — страдает ради искусства. Что до искусства, оно связано не столько с чувством, сколько с нервами… Бодлер очень нервный… Верлен трогательно-чувствителен. В этом все дело — тонко ощущать боль, изысканно впадать в тоску, изысканно поклоняться страданию. Здесь в дело вступает нежное попечительство католицизма — длинные белые свечи на алтаре, аскетически-прекрасный молодой священник, позолоченная дароносица, тонкое благоухание ладана…
Чтобы исполнять роль правильно, необходим легкий привкус цинизма — исповедание материалистических догм, объединенное (ведь последовательность запрещена!) с мрачной болтовней о «воле к жизни»… Общий итог — жизнь омерзительна, но красота блаженна. А красота… о, красота! — это все прекрасное. Не слишком ли это очевидно, спросите вы? В том и заключается очарование, показывающее, как вы просты, как католически-невинны. Да, невинны. Красота всегда непорочна, что бы там ни говорили. Конечно, есть на свете «ужасы» — боль, дикий взор любителя абсента, бледные лица «невротических» грешников; но все это -у наших парижских друзей, такой-то «группы», которая встречается в таком-то кафе.
Джонсон стал католиком в том самом году, в каком написал это эссе; в нем была несомненная строгость. Однажды он сказал Йейтсу, что люди, отрицающие вечную гибель, должны бы понять, как они невыразимо вульгарны.
Напряженную чувствительность Джонсона в том, что касается веры и монархии (на самом деле он был сторонником Стюартов), можно почувствовать в двух его самых известных стихах, «Темный ангел» и «У статуи короля Карла на Черинг-Кросс». Он постепенно спился после того, кик врач (сейчас мы сказали бы — с почти преступной халатностью) посоветовал ему выпивать, чтобы избавиться от бессонницы. Йейтс описывает его падение в своих «Автобиографиях». Ле Гальен, возможно, уже предчувствовал тогда, в «Грейз Инн», что абсент «слишком свирепое зелье» для такого тонкого человека. Но Джонсон пил, «потому что, особенно в форме его любимого абсента, алкоголь на какое-то время стимулировал и прояснял его разум и воображение». Позднее у него развилась мания преследования, ему казалось, что за ним следят. Близкий друг Эрнеста Доусона, он вечно сидел в кабачках на Флит-стрит и умер в 1902 году, после того, как упал там с высокого табурета.
Коллега Джонсона по Клубу стихотворцев Артур Саймоне сыграл ключевую роль в формировании образа 90-х годов XIX века. Он редактировал влиятельный журнал «Савой» и был автором работ о Бодлере, Уолтере Пейтере и Оскаре Уайльде. Его главный труд, книга «Символистское движение в литературе» (1899), сделавший современную ему французскую поэзию более известной в Англии, считался в свое время чуть ли не манифестом. Раньше он опубликовал эссе о «Декадентском движении». Собственные его стихи — квинтэссенция духа 90-х годов, импрессионистские наброски «низких» урбанистических тем — театров и кафе, сомнительных актрис, проституток, дешевых пансионов, нищих углов, которые сочетаются с совсем уж непоэтическими, как тогда считалось, деталями, например — сигаретами и газовыми фонарями. Однако есть у него и тяжелый цветистый эстетизм, и более причудливые черты, например, — освещенные газом улицы в стихотворении «Лондон»:
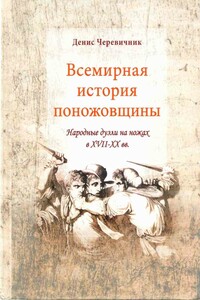
Вниманию читателей предлагается первое в своём роде фундаментальное исследование культуры народных дуэлей. Опираясь на богатейший фактологический материал, автор рассматривает традиции поединков на ножах в странах Европы и Америки, окружавшие эти дуэли ритуалы и кодексы чести. Читатель узнает, какое отношение к дуэлям на ножах имеют танго, фламенко и музыка фаду, как финский нож — легендарная «финка» попал в Россию, а также кто и когда создал ему леденящую душу репутацию, как получил свои шрамы Аль Капоне, почему дело Джека Потрошителя вызвало такой резонанс и многое, многое другое.
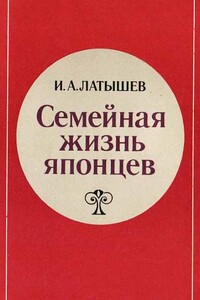
Книга посвящена исследованию семейных проблем современной Японии. Большое внимание уделяется общей характеристике перемен в семейном быту японцев. Подробно анализируются практика помолвок, условия вступления в брак, а также взаимоотношения мужей и жен в японских семьях. Существенное место в книге занимают проблемы, связанные с воспитанием и образованием детей и духовным разрывом между родителями и детьми, который все более заметно ощущается в современной Японии. Рассматриваются тенденции во взаимоотношениях японцев с престарелыми родителями, с родственниками и соседями.
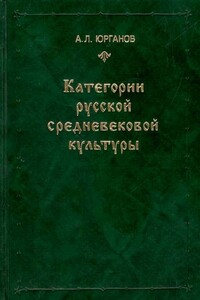
В монографии изучается культура как смыслополагание человека. Выделяются основные категории — самоосновы этого смыслополагания, которые позволяют увидеть своеобразный и неповторимый мир русского средневекового человека. Книга рассчитана на историков-профессионалов, студентов старших курсов гуманитарных факультетов институтов и университетов, а также на учителей средних специальных заведений и всех, кто специально интересуется культурным прошлым нашей Родины.

Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.

Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.

«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.