1946 г, 47 г, 48 г, 49 г. или Как трудно жилось в 1940-е годы - [38]
Наступает зима 1946–1947 годов, и все чувствуют, какая она будет голодная. Даже дети понимают, что надвигается голод. Наверное, это из-за писем, которые читают наши мамаши, а ребятишки слушают. Письма приходят от родственников из других краев и областей. В них нет ничего о радости, а все только о беде. Условия жизни ужасные. Зарабатывают по 300 трудодней, а хлеба не получают. Продают все, что можно, а если на продажу ничего нет – хоть лезь в петлю. Воровство развелось такое, что раздевают среди белого дня. Грабят, убивают. Словно нет никакой власти. Нищие бродят целыми семьями. Старики и дети отекают, опухают и быстро умирают. Вот что пишут родным в Москву, а затем умоляют: пришлите посылочку, а то пропадем! Но из обитателей нашего барака никто никому ничего выслать не может. Я тоже не могу послать родителям ни чая, ни сахара, ни мыла.
Впрочем, я дала себе клятву откладывать, как бы трудно ни было, немного денег, надеясь накопить хотя бы на скромную продуктовую посылку. Сама я спасаюсь тем, что питаюсь в рабочей столовой. Там можно купить три блюда – суп, тушеный картофель с капустой или молочную кашу, ну и запеканку из лапши. Основная еда – хлеб.
В 1947 году я поехала в родной город и увидела своими глазами, как живут мои папа и мама. Привезла им кое-что из еды, из вещей. Папе привезла пиджак, купленный на базаре. Он оказался на два размера больше, но папа все равно надел его, и был очень рад. От недоедания его тело усохло, а я боялась, что пиджак будет мал. Родители улыбались, а мне хотелось плакать. Как постарели мои папочка и мамочка! У обоих выпала половина зубов. Ну, как можно было, глядя на этакое, не переживать? Папе всего только пятьдесят пять лет, а он крошит хлеб в суп ну словно старичок! Я рассказала о фронте, и папа с мамой слушали с интересом и внимательно, но больше всего они хотели послушать о Москве: «Расскажи, доченька, как там, в столице. Видела Сталина? А как люди живут?» Я поняла, что нужно рассказать что-нибудь удивительное. Про Сталина не было смысла рассказывать – ведь его не увидишь на улице, разве что на портретах. Я осторожно рассказала про коммерческий магазин, и родители были потрясены, разволновались: «Вот это да! Бывает же такое!» Конечно, я поспешила уточнить, что мне, работнице прачечной, у коммерческих прилавков нечего делать. Затем я рассказала про антикварный магазин. В Москве, на одной из центральных улиц, я видела торговлю антиквариатом. За витриной стоит старинная мебель, а еще вазы, картины в золоченых рамах, видны ковры и гобелены. Я была потрясена: кто же покупает эту роскошь и сколько за нее просят? Я приходила к антикварному магазину десяток раз и наблюдала за входом. Мне нравилось глядеть на витрину, от нее веяло другой жизнью, богатой и счастливой. Я связывала антикварные вещи со словами «счастливая устроенность». Они вдруг сами по себе сложились в моей голове, и я их повторяла. Иногда я видела необыкновенных людей, то есть тех, кто покупал антикварные вещи. Однажды в магазин вошла хорошо одетая парочка: дама в беличьей шубке, в чулках и заграничных ботиночках, да еще в чудесной шляпе, а на мужчине было новое пальто с бобровым воротником. Кто они, эти счастливые люди? Богачи! Приехали на машине. Вышли из магазина, улыбаясь и щебеча о чем-то. Купили расписную зеленоватую вазу. Сели в авто и уехали. И я подумала: «Боже мой! Как же хорошо нужно зарабатывать, чтобы позволить себе покупку антиквариата! Счастливые! Но как? Откуда берутся такие большие лишние деньги?» Я удивлялась и завидовала. Потом шла в чайную и выпивала стакан вина. Меня окружали мужчины, большей частью фронтовики, и мне было привычнее находиться среди мужчин, однако я не могла запросто затеять с ними разговор – как я уже говорила, после фронта это были совсем другие люди. Я не могла рассказать им про антикварный магазин. Они не стали бы меня слушать. Они устали и морально, и физически и сами искали утешение в бесконечных монологах. В бараке я тоже не могла поделиться своими впечатлениями. Это обернулось бы против меня. Ну как рассказать нервным, издерганным одиноким мамашам о счастливой парочке, купившей старинную вазу? Мне, наверное, плеснули бы кипятком в лицо – чтобы я на всю жизнь запомнила, как дразнить несчастных и измученных. И вот я рассказала об антикварном магазине маме и папе, и лишь они выслушали меня, как добрую сказочницу. Им это понравилось. «Ковры, вазы, гобелены! – шептала мамочка. – Ах, неужели? И ведь покупают!» Я рассказала, что живу в бараке, мое личное пространство – полтора метра возле моей койки, да еще столько же на кухне у стола. Мне хотелось, чтобы мама и папа знали правду: мне негде их принять. И они поняли меня и сказали: «Ничего, милая, вот когда устроишься получше, тогда мы и приедем».
Из нашего барака я выбралась в конце лета 1948 года. Руководство прачечного комбината отдельную комнату мне так и не предоставило, предложило лишь переехать в другой барак-общежитие. Я отправилась на него взглянуть, и оказалось, что он находится почти в центральной части города, на набережной Москва-реки. Такой же грязный, тоскливый и тесный, как и наш, но место все же получше. Все-таки река, набережная. Из реки можно брать воду, кипятить ее, мыться. По набережной можно гулять, дойти даже до Кремля. По реке в навигацию плывут катера, баржи. Смотреть на них – хоть какое-то развлечение. Я согласилась переехать. Собрала свои вещи. Попрощалась Валентиной Петровной и Ольгой Ивановной, с мамашами и с Агнией. Агния сказала: «Ну вот, место твое освободилось, так пусть же его займет хоть какой-нибудь мужчина, пусть плюгавый, пропащий – все равно. Лишь бы не бабенка». Однако явившийся комендант объявил, что на освободившемся месте завтра поселится женщина, работница завода. Агния, ругаясь, пошла провожать меня и по дороге стала говорить, чтобы я смотрела во все глаза и нашла мужчину и для себя, и для нее. «Мне сгодится любой кавалер до пятидесяти лет, – сказала Агния. – Если старше – тогда он должен быть зажиточный. Я вдовой на бобах остаться не хочу, я сейчас такая вдова. Ничего интересного. В общем, буду ждать от тебя весточки. Умоляю, вытащи меня отсюда! Я тебя всю жизнь благодарить буду!» Я хорошо понимала эту «барачницу», но что я могла обещать? Ведь мое будущее мне было неизвестно. Жить в тесном бараке тяжело, требуется много терпения. А его всегда можно растерять. И тогда легко впасть в отчаянье, огрубеть и опуститься. Кому понадобится такая женщина? Я ответила Агнии: «Чем могу – помогу». И мы распрощались. В общежитии на набережной меня встретили холодно и равнодушно, как встречали, пожалуй, везде в сороковые годы. Люди сильно устали, измучились. У них не было ни одной причины быть приветливыми. Едва только я появилась в бараке, две мамаши громко поссорились и подрались. Их разняла какая-то грубая баба с очень густыми волосами, заплетенными в косы. Она проживала в моей комнате. Кроме нее, жили еще две соседки, и обе с детьми. У одной – двое, у другой тоже было двое, но старший мальчик умер нынешней зимой от пневмонии. Дети рассеянные, непослушные, пугаются только истошных криков. Бабу с косами звали Кира. Она пришла, села на кровать напротив меня и спросила: «Табак есть? А водка?» У меня не было ни табака, ни водки. Кира сказала: «Тоска!» Она думала, что я «эвакуашка», то есть вернувшаяся из эвакуации. «У вас, эвакуашек, вечно ничего нету, – сказала она. – Потому что мозгов нет. Потому что настоящего лиха не видели. А я была в окружении, и в партизанском отряде была. И там меня научили жизнь любить!» Я спросила: «Что же у тебя самой нет табака и водки?» Кира усмехнулась и показала жестами, что все было да вышло. Она была грубая и прямая женщина, но не такая нервная, как мамаши. Война научила ее не впадать в истерику. Я не стала говорить, что и я фронтовичка, полагая, что всему свое время. В этом бараке проживали такие же простые люди, как и на окраине, и крайняя бедность здесь приняла точно такие же четкие очертания, и от этой бедности люди не могли спокойно слышать о чьем-то преимуществе. Только Кира могла сколько угодно рассказывать о войне, потому что ее боялись. Она могла так ударить человека, что тот оказался бы на полу. Она была физически сильная деревенская женщина. А я не стала бы драться, потому что берегла лицо и зубы, поскольку мечтала встретить мужчину и выйти за него замуж. Поэтому я помалкивала. А Кира разглагольствовала: «У нас в отряде были огонь-мужчины! Лихие партизаны! И воевать умели, и песни петь, и водку пить, и любить!»
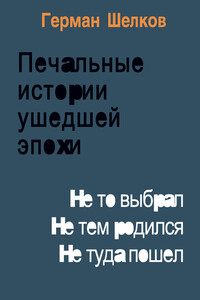
Впервые представленные читателю драматические и остросюжетные истории эпохи Советского Союза, происходившие в 1970-х годах.

Люди с неудачно сложившейся судьбой рассказывают о плохих поступках, которые они совершили в жизни и которые отрицательно повлияли на их судьбу.

Люди, жившие в СССР, каждый по-своему, но с поразительной искренностью рассказывают о советской стране – о дворах, детстве, семье, занятиях, работе, взаимоотношениях и о многом прочем из своей повседневной жизни.

Название этой книги говорит само за себя. Здесь рассказывается о проклятии, с которым сталкиваются люди, бросившие своего ребенка, о разрушенных и растерзанных судьбах. Также читатель узнает о тех, кто безвинно пострадал из-за проклятых людей.

Кто не встречал в жизни злых людей? Пожалуй, все встречали. Люди одержимые злостью мешают нам жить, мы страдаем от их присутствия и считаем их нашей общей бедой. Но расплачиваются ли они за свое зло? Приходится ли им отвечать за свои поступки? В этой книге вы прочтете истории о том, какое возмездие настигает злых людей на их жизненном пути.

Люди, жившие в СССР, каждый по-своему, но с поразительной искренностью рассказывают о советской стране – о дворах, детстве, семье, занятиях, работе, взаимоотношениях и о многом прочем из своей повседневной жизни.