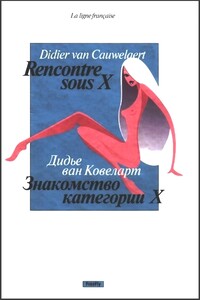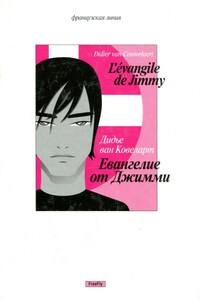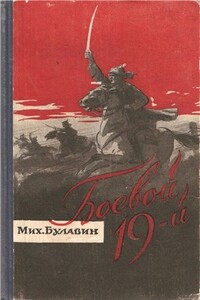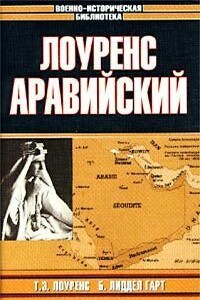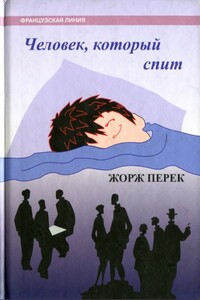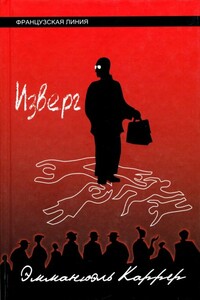В тот день, когда я встретил Талью, мы занимались с ней любовью на глазах у сорока человек. Потом пошли пропустить по стаканчику. Тогда и познакомились.
Она родилась на Украине, ее мать работала на заводе, кто был отцом — неизвестно. В двенадцать лет она уже сидела на диете и учила французский. Каждый год в апреле из Парижа приезжал «охотник за ногами», проверял, насколько она выросла, и говорил: «В следующем году тебе надо подрасти на три сантиметра и сбросить два килограмма». Предварительный отбор в Киеве прошли десятки девушек — в Париж поедет только одна. Через пять лет Талья достигла заветных метра семидесяти шести, довела себя до истощения, и мечта ее наконец сбылась: виза, билет на самолет и эксклюзивный контракт с самым крутым модельным агентством Парижа, которое развалилось сразу после ее приезда. Она осталась ни с чем, но никому об этом не сказала. Чтобы, как и раньше, посылать матери деньги, она стала налегать на пирожные и сниматься в порно.
— А ты? — спрашивает она, сгибая трубочку в стакане с колой.
Я задумываюсь. Девять месяцев назад я стоил три миллиона евро. Сегодня мне грош цена, но я тут ни при чем.
— Я с Мыса.
Она оживилась.
— Мыса Ферра[1]?
— Просто Мыса. Это в ЮАР.
Она берет горсть арахиса. По всей видимости, мое имя ей ни о чем не говорит. Это нормально. Кто сегодня вспомнит Руа Диркенса? Девять месяцев назад мне посвятили три колонки в «Экип», с тех пор я как будто больше не существую.
— И чем ты занимаешься?
— Играю в футбол.
«А-а», — протянула она, поправляя непослушную прядь волос. Уж и не знаю, наплевать ей или она притворяется, что ей интересно. Я в нерешительности опускаю голову. Окружающие, глядя на яркую блондинку в обществе невзрачного курчавого паренька в тренировочном костюме, наверное, думают, что я пытаюсь ее клеить и у меня это плохо получается. Конечно, кому придет в голову, что мы только что целых три часа трахались по команде «Мотор!».
Она посмотрела на проспект, по которому сновали машины, и снова принялась вежливо меня расспрашивать:
— И где ты играешь?
— На замене.
Помолчав несколько секунд из чувства собственного достоинства, уточняю, поскольку привык говорить правду:
— Но на самом деле я еще ни разу не вышел на замену.
Она доедает последний орешек, провожая взглядом пару сиреневых кроссовок на каблуках, направляющихся вверх по проспекту. Ей девятнадцать, как и мне, но стоит ей заговорить, и кажется, что она лет на десять старше. Дело не столько в опыте, сколько в энергии, целеустремленности. Единственное, что имеет для нее значение, — это будущее. А все, что дорого мне, осталось в прошлом. Я стал пленником настоящего, в котором никому не нужен. Она спрашивает:
— А чем ты зарабатываешь на жизнь?
— Ничем.
Она понимающе мычит в ответ, поднимает брови, допивает колу и принимается грызть льдинки — вот и вся реакция. У меня перехватывает дыхание от того, насколько похожи наши ситуации. И она, и я — мы оба импортированные товары. Но разница в том, что я ни о чем не просил: вербовщик из Парижа приехал и купил меня по случаю как представителя Южной Африки, чтобы потом подороже продать права на трансляцию футбольных матчей в ЮАР. А сейчас, когда права уже проданы, им больше нет нужды выпускать меня на поле. К тому же в нашей команде пятнадцать центрфорвардов. По одному на каждую страну, с которой велись переговоры о продаже прав на трансляцию. Через три месяца, если я войду в состав сборной, клуб одолжит меня родной стране для выступления в Кубке Африки: финансовый директор надеется, что, забив дома, я повышу собственный рейтинг и тогда он сможет выгодно продать меня «Манчестеру», в котором с тех пор, как из команды ушел Квинтон Форчун, не осталось игроков из ЮАР. Но, учитывая то, что обо мне говорят, в сборную я вряд ли попаду.
— Почему ты приехал во Францию? — интересуется она, кусая дольку лимона. — Тебя черные выгнали?
Я пожимаю плечами. Мне было семь, когда Нельсон Мандела вышел из тюрьмы, примерно в то же время у них там распался СССР. Принимать меня за жертву апартеида так же глупо, как видеть в ней воплощение коммунизма.
— Я пошутила, — поясняет она. Только теперь в ее глазах сверкнула искорка интереса — она заметила, что я разозлился. — Ты приехал искать работу и не нашел.
Я опускаю глаза. Ну, можно и так сказать. Я играл один раз, против «Нанта»: после моего выхода с трибун послышались расистские выкрики, меня удалили на десятой минуте из соображений безопасности, и с тех пор я сижу на скамейке запасных..
— Значит, будем друзьями, — подытоживает она.
Нахмурив брови, смотрю на нее, откинувшуюся назад, на ее красивую, устремленную кверху грудь, от которой на моих губах еще остался горьковатый привкус тонального крема.
— Какая связь? — спрашиваю в ответ.
Она продолжает по-английски.
— Если бы ты жил на Кап-Ферра с богатенькими родителями, я бы упорно тебя клеила, месяца через два женила бы на себе, а потом только бы и думала что о разводе, чтобы спокойненько жить себе на алименты. Мне нельзя терять время: я не могу быть подружкой богача.
— Значит, мне повезло?
Ответил я ей в тон и тоже по-английски. Мы словно пытались избежать излишней откровенности, перейдя в чужой для нас стране на иностранный язык. Хотя странно, что я вообще упомянул об откровенности, ведь я только что решил ей соврать. Зато искренне: мне чертовски понравилось заниматься с ней любовью и жутко хотелось, чтобы мы подружились. Не стану я все портить, рассказывая о том, что, хоть и родился во вшивом пригороде Кейптауна, сейчас получаю около двадцати тысяч евро в месяц и в целом гожусь на роль того самого миллионера из ее мечты. Прекрасный принц для нее — всего лишь алименты, а я совсем не хочу ее потерять. Даже если все, что у нас сейчас есть, — это три часа полового акта и возникшее, как только мы оделись, ощущение, что мы уже сто лет знакомы. Как два солдата вражеских армий, которые после заключения перемирия поняли, что у них все стало общим.