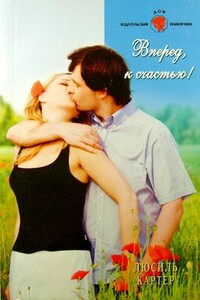Яна Кане начала писать стихи еще в России, посещала в Петербурге ЛИТО Вячеслава Лейкина, но потом, в возрасте 16 лет, переехала в Штаты и правильно сделала. Не потому, что в Штатах лучше, а потому, что традиция ее поэзии – американская, метафизическая, и верлибр у нее органичен, хотя и рифмованным стихом, как вы увидите, она владеет вполне. Русская поэзия отягощена бытом и социальностью, а Яна Кане предпочитает всего этого не видеть или по крайней мере на этом не фиксироваться. Ее интересует тонкая грань между сном и бодрствованием, между агностицизмом (не безверием конечно) и верой, между стихами по-русски и стихами по-английски (они пишутся явно одним и тем же человеком, но в двух различных состояниях). Как сформулировала она сама – перевожу прозой и в строчку, – «На этом языке я беседую, спорю, флиртую с мужем, учу или развлекаю дочь, общаюсь с подругами из колледжа, отчитываюсь на конференциях, докладываю шефу, здороваюсь с соседями. А на ТОМ языке – я прислушиваюсь к шепоту призраков, их неспешной беседе, скользящей своей неизменной орбитой».
Это, конечно, несколько принижает английский: «свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов, все это, а также все, относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям – становится по-русски топорным» (Набоков). Но для Яны Кане именно русский – язык отвлеченностей, памяти, темных интуиций о Боге. Ее английские стихи написаны женщиной умной и проницательной, русские – женщиной чуткой и понимающей много больше, чем она хочет выразить по-английски.
Это двойное существование («на пороге как бы двойного бытия», как писал Тютчев, вероятно, самый близкий ей поэт) – первый такой случай в литературе. Большинство билингвов, переходя на другой язык, остаются собой. Кане по-английски – это другая личность с другой памятью. Но все это написано на русском холсте, на котором – русская почва, глина (название весьма важное и откровенное), русское подсознание и русские догадки о Боге. Именно религиозность Кане – ничуть не церковная, тем более не сектантская, – вписывает ее в традицию Тютчева, Тарковского, Заболоцкого; именно этот круг авторов – названных или не названных в эпиграфах, – определяет ее поэтику и темы.
Поэзия не нуждается в предисловиях, оправданиях и пояснениях. Кане – сложившийся поэт, сумевший из своей драмы сделать лирическую тему и превратить эту драму в факт литературы. А поскольку таким двойным бытием отягощены уже тысячи наших соотечественников, – бывших, или вернувшихся, или живущих на две страны, – эта книга будет востребована, прочитана и многим облегчит душу.
И это первый случай, когда я не жалею о том, что талантливый поэт уехал из России. Собственно, он эмигрировал в литературу, а это лучшее, что можно сделать с собой.
Дмитрий Быков
Yana Kane began to write poetry while still living in Russia. She was a student in Vyacheslav Leikin's poetry workshop in St. Petersburg. At the age of 16, she relocated to the United States, which was the right thing to do. Not because it is better in the States, but because the tradition of her poetry is American – it is metaphysical, and free verse comes naturally to her; although, as you will see, she has a mastery of rhymed verse. Russian poetry is burdened by the struggles of everyday life and by societal concerns. Kane prefers not to see all of this, or at least not to fixate upon it. She is interested in the subtle border between dreaming and lucidity, between agnosticism (not unbelief, of course) and faith, between poetry in Russian and poetry in English. Her poems in the two languages are clearly written by the same individual, though in two different states of mind. As she herself formulated:
In this language,
I converse, argue, and flirt with my husband,
Teach and amuse my daughter,
Stay in touch with friends from college,
Confer with my colleagues,
Report to the boss,
Say hello to the neighbors.
In that language,
I listen to the voices of ghosts.
Their unhurried conversation
Glides along its immutable orbit.
This, of course, underrates English somewhat. Nabokov wrote: “…the subtle understatements so peculiar to English, the poetry of thought, the instantaneous resonance between the most abstract concepts, the swarming of monosyllabic epithets – all this, and also all that is related to technology, fashion, sports, the natural sciences, and the unnatural passions – in Russian become clumsy (rough-hewn)”. But for Yana Kane, it is Russian that is the language of abstractions, of memory, of dark intuitions about God. Her English poems were written by an intelligent and insightful woman; the Russian ones were written by a woman who is attuned to a lot more than she wishes to reveal in English.
This double existence (“as though at the verge of double being,” to quote Tyutchev, whose poetry probably is closest to hers) is the first such case in literature. Most bilingual writers remain themselves when moving to another language. Kane in English is a different person with a different memory. Yet all of this is painted on a Russian canvas; grows from Russian soil, from clay (a word that occurs repeatedly in her poetry, which is important and revealing); from the Russian subconscious and Russian intimations of God. It is Kane’s religious sensibility – not at all church-based, and even more definitely not sectarian – that places her poetry into the tradition of Tyutchev, Tarkovsky, Zabolotsky; it is this circle of authors that determines its poetics and themes.