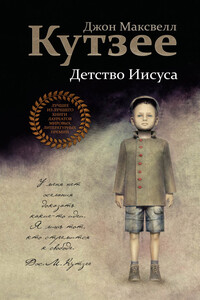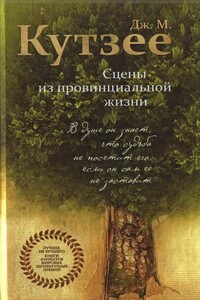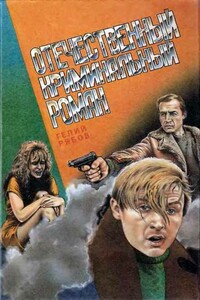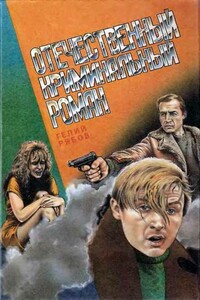Вдоль стены гаража идет дорожка, ты должна ее помнить – иногда вы с подружками там играли. Теперь она заброшена, ею никто не пользуется, там скапливаются и гниют нанесенные ветром листья. Вчера вечером в конце этой дорожки я обнаружила сооружение из коробок и полиэтиленовой пленки. Внутри, скорчившись, спал человек. Я уже видела его на улицах: высокий, тощий, с обветренным лицом, в мешковатом сером костюме, в шляпе с обвисшими полями. Он так и спал в шляпе, подвернув под голову поля. Типичный обитатель дна, из тех, что слоняются возле автостоянок на Милл-стрит, клянчат деньги у покупателей, пьют в подземных переходах, едят из мусорных бачков. Хуже всего им приходится в августе, с началом сезона дождей. Он спал в своем картонном доме, раскинув ноги как марионетка, приоткрыв рот. От него шел неприятный запах – мочи, бормотухи, волглой одежды и чего-то еще. Нечистоты.
Некоторое время я стояла над ним и смотрела – и принюхивалась. Гость, заявившийся именно теперь – не раньше и не позже.
В тот день доктор Сифрет сообщил мне плохую новость. Но плохая или хорошая, она была моей и только моей, и отказаться от нее я не могла. Мне оставалось лишь принять ее и унести с собой; плакать, протестовать было бы бесполезно. «Спасибо, доктор, – сказала я. – Спасибо, что вы были со мной откровенны».
«Мы сделаем все, что в наших силах, – сказал он. – Мы будем бороться вместе». Но за его участием я видела желание сбыть меня с рук.
Sauve qui peut![1]. Солидарность с живыми, а не с умирающей.
Только когда я вышла из машины, меня вдруг затрясло. К тому времени как я закрыла дверь гаража, дрожь била меня так, что пришлось стиснуть зубы и вцепиться пальцами в сумочку. Тогда я и увидела эти коробки – увидела его.
– Что вы тут делаете? – спросила я, даже не пытаясь скрыть раздражение.
– Вам тут не место. Уходите.
Он не шевельнулся, молча разглядывая меня из своего укрытия: толстые чулки, синее пальто, юбку, вечно как-то обвисающую на мне, редкие седые волосы и между ними – голый череп с розовой, как у младенцев, старушечьей кожей.
Потом он подобрал ноги и не спеша поднялся. Молча, ни слова не говоря, повернулся ко мне спиной, встряхнул черную полиэтиленовую пленку, сложил пополам, еще и еще раз пополам. Достал сумку (Air Canada) и застегнул молнию. Я отступила, пропуская его. Он прошел, оставив за собой коробки, пустую бутылку, запах мочи. Брюки на нем сползли, он подтянул их. Я задала, желая убедиться, что он уйдет, и услышала, как он запихнул полиэтилен в кусты с другой стороны изгороди.
Итак, в один час два события: новость, которую я давно со страхом ожидала, и другая весть – первый лазутчик. Один из стервятников, приведенный сюда безошибочным инстинктом. На сколько еще станет моих сил от них отбиваться? Пожиратели отбросов Кейптауна, число которых никогда не убывает. Без еды, без одежды, без крова – они не болеют, не замерзают, не умирают с голоду. Алкоголь греет их изнутри. Любой вирус, любая инфекция, попадая им в кровь, гибнет в этом жидком пламени. Мухи с прозрачными крыльями и блестящими глазами, не знающие жалости. Они наследуют мне.
О, как медленно входила я в этот пустой дом, где не осталось уже и эха, где даже следы на половицах не выражают ничего, кроме скуки. И как мне хотелось, чтобы ты была здесь – обняла меня, утешила. Я начинаю понимать подлинный смысл объятий. Мы обнимаем, чтобы обняли нас. Обнимаем своих детей, чтобы попасть в объятия будущего, пересечь границу смерти. Так было всякий раз, как я тебя обнимала. Мы рожаем детей, чтобы они нас усыновили. Это так просто – тайна материнства; отныне и до самого конца я буду говорить тебе только о ней. Как же мне хотелось, чтобы ты была здесь! Чтобы можно было подняться в твою комнату, присесть на кровать, запустить пальцы в твои волосы, шепнуть тебе на ухо: «Пора вставать». Так я будила тебя в школу. А когда ты повернешься, обнимала тебя, теплую теплотою крови, и твое дыхание пахло молоком. Это называлось у нас «обнять покрепче мамочку», тайный же, невысказанный смысл был в том, что мамочку нужно утешить, что она не умрет, но продолжит в тебе свою жизнь. Жить! Ты – моя жизнь, и я люблю тебя, как саму жизнь. По утрам, выйдя из дома, я поднимаю палец, слегка лизнув его, чтобы узнать – откуда ветер. Если с северо-запада, с твоей стороны, я долго стою, сосредоточенная, и принюхиваюсь – не донесет ли какой-нибудь его порыв тот молочный дух, что сохранился у тебя за ушами и в складках шеи.
Главное, что мне предстоит с сегодняшнего дня, – не поддаться соблазну разделить с кем-нибудь свою смерть. Из любви к тебе и из любви к жизни – простить живых, уйти без горечи, без упреков. Принять в объятия свою, единственную смерть. Кому же я тогда пишу? Тебе? И да и нет. Себе; тебе во мне.
Остаток дня я старалась чем-нибудь себя занять: прибирала, разбирала ящики стола, выбрасывала бумаги. В сумерки я снова вышла из дома. Позади гаража стояло то же самое укрытие, аккуратно обтянутое черной пленкой. Человек лежал внутри, подобрав ноги, а рядом с ним – пес, который при моем появлении навострил уши и завилял хвостом. Колли, совсем молодой, почти щенок, черный с белыми пятнами.