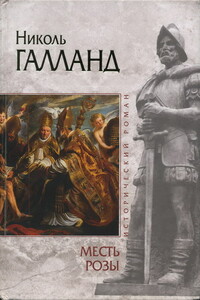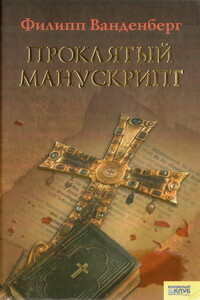1.
Гошка Потеряев ехал на Новый год домой из тайги на "буране". На нем была собачья шапка, суконная куртка-азям, суконные портки, надетые навыпуск на кожаные бродни с исцарапанными головками. Лыжи лежали поставленные на ребро вдоль сиденья на подножках, на правой - камусный конец был вечно подожжен о глушитель. Ехал сначала хребтом, потом спускался к реке по косогорам, ручьям, привстав на одно колено, елозя по промятому сиденью, вертясь до треска в пахах, весом крупного тела помогая сохранять пляшущему "бурану" устойчивость. Съехав на реку, взрыл снег ногой, проверив "на воду", и помчался дальше. Сзади болталась нарточка, свирепо провонявшая выхлопом, облепленная снежной пылью. Останавливался подождать собак или посмотреть дорогу, оставляя "буран" молотить на холостых, шел вперед, в подозрительным месте разгребая снег броднем. Грел руки под вентилятором. Стоял - усы в сосульках, борода шершаво белоснежная, блестящие серые глаза откуда-то из глубины белых ресниц живо, тепло блестят, кожа красная, на щеках белые волоски, собачья шапка заиндевелая, пахнет распаренной псятиной. На ремне за спиной проволочная скобка, в ней топорик. Через плечо тозовка стволом вниз. Под стеклом запасные рукавицы.
Солнце туго сеялось сквозь морозный воздух, все было совершенно стерильным, и Гошка и снаружи, и изнутри тоже был чистым и необыкновенно собранным, нацеленным на долгую и долгожданную дорогу.
- Ниче ишшо "буранишко", - пнул он помятый рыжий бок, привычно прибедняя положение, чтобы в случае неудачи или промашки не краснеть за бахвальство. "Буранишко", с которого все лишнее было снято и все нужное наварено, и был и впрямь в соку, не старый еще и уже не новый, неразъезженный. Что-то показалось подозрительным в ходовой, и Гошка легко завалив набок триста килограммов, внимательно осмотрел низ, имевший особенно боевой вид: истертая добела лыжа, пробитый поддон, свороченные скулы, мощно чернеющие гусеницы. Уронил обратно, постоял толканул, заглянув под капот, сколько осталось бензина, тот болтанулся, закачался в пластмассовом баке темным пластом.
Небо было ясным и казалось совсем весенним, если бы не морозец в 42 градуса. Оставляя двойную полосу шел на север Норильский ИЛ-76, за ним, с отставанием на пол-неба полз резкий и далекий шелест. Вид такого самолета, нелепая близость к бескрайним таежным пространствам теплой кабины с приборами или салона с ухоженными пасажирами, выпивкой и закусками, вызывал у охотников свою специальную ухмылку. И Гошка тоже ухмыльнулся, вспомнив своего товарища, молодого, едва пришедшего из армии, парня, которого бесконечно забавляло, то что, когда он в ста верстах от деревни вытаскивал "нордик" из наледи, над ним проплывал самолет с "угарными телками".
Рация у Гошки сломалась, и он не знал, кто из охотников где и, подъезжая к избушке нижнего соседа, с надеждой думал, может Колька там, да еще выскочил из боковых избушек его брат Рудька Подоспатый, а может вдобавок их приехали встречать из деревни, и тогда он вообще попадает на самый праздник, потому что они наверняка с собой что-нибудь привезли, и в нажаренной избушке открыта настежь дверь, в проеме суетливо вьется обильный пар, все уже как следует шарахнули спирту, и дым стоит коромыслом. Как отлично так вот подъехать, подогнать "буран" к бурановской стае, и все вывалят из избушки, бородатые и похудевшие, постаревшие за разлуку и краснорожие, заорут: "Ну и нюх у тебя, Гоха!", или: "На Кедровом наливают, а он на Скальном нюхтит стоит!", или:"В деревню намылился - защекотилось у него!" Полезут трясти за руки, обниматься, лупить по плечу. А он солидно снимет тозовку, покопается для приличия в нарте, мол, не так уж охота, имеем и терпеж, а потом ввалиться, согнувшись в три погибели, все подвинутся, и он разденется и возмет протянутую кружку...
За Большим порогом Гошка влез в наледь, чавкал броднями по парящей и похожей на мокрый сахар каше. В конце концов раскатал полную зеленой воды траншею, пробил ее до сухого и выехал. Перевернул "буран" и долго вычищал мокрый снег из ходовой - то красными, вмиг стынущими руками, то концом топорища.
Через поворот стояла избушка, до которой он проскочил минут за пять, изо всех сил шевеля в броднях коченеющими пальцами. Подъезжая, выискивал признаки свежего присутствия товарищей, старался быть спокойным, но сердце колотилось - так всегда, когда долго не видишь людей.
Заезд с берега к избушке был безжизнененый, трехдневной давности, у двери сквозь снежную пудру рыжела вываленная заварка. Гошка затопил печку-полубочку, стянул схватившиеся панцирем портки вместе с броднями, долго стряхивал эти ледяные гармошки, растер белесые, сырые и как-то сразу похудевшие ноги с катышками шерсти от снятых носков, натянул запасные и стоял, попрыгивая и пробуя ладонями нарастающий жар печки. Натолкал еще дров, и все не влезало последнее полено, толстое листвяжное с жилистым извивом вокруг сучка, и когда дрова разгорелись, в щель виднелся тоже жилистый и крепкий извив пламени, и почему-то вспомнилась тундрочка, кривая сосенка с рыжей затесью и тетерка на ней, и рыжее небо с тетерочьей рябью, и все это было одно с другим так перевязано, так само в себе отражалось, что снова стало весело на душе, и в который раз вспомнились слова Фомы: "Ниче нет лучше охоты".