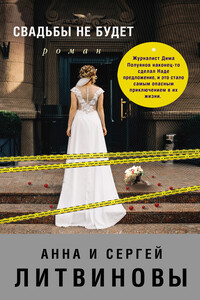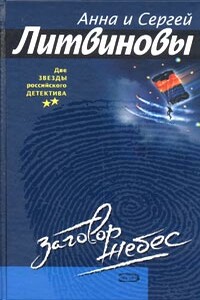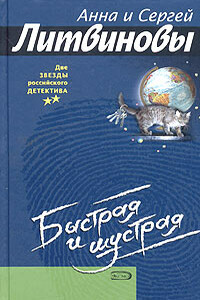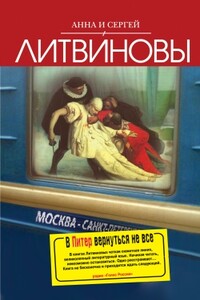Наши дни
Иван Гурьев, беллетрист
«…Но итоги всегда плачевны, даже если они хороши…»
Когда-то я был набит стихами. Как авоська продуктами в день, когда раздавали продуктовые заказы.
Тогда стихи еще имели значение. И играли роль.
Однажды, году в восьмидесятом, мне дали почитать Мандельштама. Не помню, какой была та книга. Возможно, «настоящий», изданный в типографии, сборник из «Библиотеки поэта». Но скорее – слепая машинописная копия.
И вот я, в ту пору студент (и начинающий поэт), переписывал стихи Мандельштама в альбом.
Нет, в самом деле! Сейчас трудно представить, трудно поверить, а ведь каждый вечер (или каждое утро) я садился и еще не устоявшимся, почти детским почерком заносил в альбом размеренные строки:
…Золотистого меду струя из бутылки текла так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела…
В альбом – как курсистка, на прекрасной мелованной бумаге! Предвосхищая вопросы современного человека, например, Сашеньки, моей секретарши: «Почему – именно в альбом, почему мелованная бумага?» – отвечу: «Да потому, что ничего другого под рукой не нашлось. Притащил кто-то из родителей такой с работы. Нельзя было в ту пору пойти в магазин и купить блокнот на выбор. Хочешь – карманного формата, а хочешь – настольного. Проблем не было только, кажется, со школьно-письменными принадлежностями, но не мог же я позволить себе переписывать Мандельштама в мышино-болотную тетрадку за две копейки?!»
Впрочем, впоследствии и с тетрадями начались перебои.
На вопросы совсем уж пещерного человека: «А почему надо было переписывать? Неужели нельзя было отксерить? Или, например, отсканировать?» – я и отвечать не буду. Не рассказывать же товарищу, что означал тогда «ксерокс».
Я, кстати, в ту пору думал: ксерокс – имя не собственное, а нарицательное. Что это название устройства. Автобус, троллейбус, ксерокс… Так вот – если кто забыл – ксероксы к тому времени уже изобрели. Однако были они по одному на учрежденье, в специальных комнатах – за обитой жестью дверью! С решетками на окнах! На ночь дверь, где помещался опасный объект, опечатывалась. И, чтоб ты мог что-то отксерить, требовалось для начала заполнить особую форму: что конкретно предполагается копировать и с какой целью. Затем сотрудник первого отдела проверял, что подлежало размножению, и подписывал документ.
Ах, вам надо еще рассказать, что такое первый отдел?!
Вчера я собирался на станцию встречать Сашеньку. Едва вышел из дома, полил дождь. Как из ведра. Надо бы переждать, но совершенно невозможно представить, что она будет мокнуть на станции. И без того мне неудобно, что девушка трясется ко мне сорок минут на электричке.
Кое-как я добежал до стоящей во дворе машины. Зонтик не спасал. За пятнадцать метров пробега я ухитрился промокнуть. А когда вывернул на улицу Ленина, дождь пошел уж совсем феерический.
Да-да, вот что осталось от старого мира – почти в каждом поселке главная улица по-прежнему называется именем вождя мирового пролетариата. В городах-то с ленинизмом расправились, а в поселках и деревнях есть дела важнее и проблемы насущней, чем разными глупостями заниматься, улицы переименовывать.
Так вот, когда я вывернул на Ленина, за дождем не стало видно дороги. Ливень стоял стеной. Редкие машины остановились на обочине, включив фары. Я теперь уже скорее из упрямства, чем из-за желания непременно не промочить Сашеньку, все ехал. И тут на дорогу из какого-то проулка выскочили две девчонки. Совсем юные, длинные, но с не выросшими еще грудками. Выпрыгнули, сделали, не без изящества, несколько па под сплошным душем, льющимся с небес, и скрылись в своей насквозь промокшей одежде в каком-то доме или дворе. Во всяком случае, когда я проезжал мимо того места, откуда они вылетели на дорогу, видно их уже не было. Испарились… И тут шандарахнула молния, разрезав пространство надвое. И пространство, и – время…
…Тогда тоже был дождь. Настоящий ливень. И небо разверзалось. И молнии шарахали.
И мы стояли под козырьком нашего ДК, внутри было душно – пережидали стихию. От дождя, и от свежести, и от молодости, и от ливня вдруг такой восторг переполнил душу, что я простер руки и продекламировал:
Эти летние дожди,
эти радуги и тучи —
мне от них как будто лучше,
будто что-то впереди.
Тут дело не только в восторге было, а имел я в виду произвести впечатление на двух незнакомых девчонок, жмущихся друг к другу в углу навеса.
Одна из них, толстенькая, но приятная, захихикала, а другая, юная, свежая и чистая лицом, вдруг отозвалась песней. Она подхватила своим чистым голоском, выводя мелодию, спетую юной тогда Пугачевой:
Будто будет жизнь, как та,
где давно уже я не был,
на душе, как в синем небе,
после ливня – чистота!
Она была крепкая, ладная, статная. Длинные черные волосы обрамляли румяное – безо всяких следов косметики – лицо. Жгучие черные брови, сверкающие черные глаза. Она походила на казачку, что впоследствии и подтвердилось: ее бабушка была с Дона.
В тот миг я понял, что влюбился в нее – окончательно и бесповоротно. И на всю жизнь.
И, как выяснилось, насчет всей жизни оказался прав.
Ну, разумеется, мы познакомились.
…По меркам среднего россиянина, живу я хорошо. Да что там хорошо! Просто как сыр в масле катаюсь! Дом в Подмосковье, в ближайшем пригороде. (Участок маленький и дом старый, зато от стен Кремля всего тридцать километров. И сосны шумят.) Естественно, у меня есть машина. Мне не надо ходить на работу и каждый день париться в электричках или пробках. И еще – у меня нет начальников. Встаю я не по будильнику, а когда захочу. И редко куда-нибудь спешу…