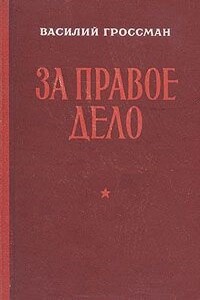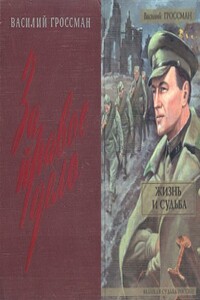В Москву хабаровский поезд приходил к девяти часам утра. Молодой человек в пижаме почесал вихрастую голову и поглядел в окно на осенний утренний полусумрак. Зевая, он обратился к людям с полотенцами и мыльницами, стоявшим в проходе:
– Граждане, кто тут у нас крайний?
Ему объяснили, что за дядей, державшим искореженный тюбик зубной пасты и кусок мыла, облепленный газетной бумагой, заняла очередь полная гражданка.
– Почему только одна уборная открыта? – проговорил молодой человек.
– Ведь приближаемся к конечному пункту – столице, а проводники только товарооборотом заняты, по-культурному обслужить пассажира у них времени не хватает.
Через несколько минут появилась толстая женщина в халате, и молодой человек сказал ей:
– Гражданка, я за вами, а пока пойду к себе, чтобы в проходе не болтаться.
В купе молодой человек раскрыл оранжевый чемодан и залюбовался своими вещами.
Из его соседей – один, со вздутым широким затылком, храпел, второй – румяный, лысый и молодой, разбирал бумаги в портфеле, а третий, худой старик, сидел, подперев голову коричневыми кулаками, и смотрел в окно. Молодой человек спросил румяного спутника:
– Вы читать больше не будете? Надо книжонку уложить в чемодан.
Ему хотелось, чтобы сосед полюбовался чемоданом. Тут были вискозные сорочки, и «Краткий философский словарь», и плавки, и защитные от солнца очки в белой оправе. Прикрытые мелкокалиберной районной газетой с краю лежали серые коржики домашнего, деревенского печения.
Сосед ответил:
– Прошу, я эту книгу, «Евгения Гранде», уже читал в прошлом году в санатории.
– Сильная вещичка, ничего не скажешь, – проговорил молодой человек и уложил книгу в чемодан.
В дороге они играли в преферанс, а выпивая и закусывая, разговаривали о кинокартинах, пластинках, мебельных гарнитурах, сочинских санаториях, о социалистическом земледелии, спорили, чье нападение лучше – «Спартака» или «Динамо»…
Румяный, лысый работал в областном городе инструктором ВЦСПС, а вихрастый возвращался после отпуска, проведенного в деревне, в Москву, где он состоял экономистом в Госплане РСФСР.
Третий спутник, сибирский прораб, храпевший сейчас на нижней полке, не нравился им своею некультурностью: он матерился, рыгал после еды, а узнав, что попутчик работает в Госплане по части экономических наук, спросил:
– Политическая экономия, как же, это про то, как колхозники ездят из деревни в город хлеб у рабочих покупать.
Как-то он сильно выпил в буфете на узловой станции, куда, как он говорил, бегал отмечаться, и долго не давал своим спутникам уснуть, все шумел:
– По закону в нашем деле ничего не добьешься, а если хочешь дать план, надо работать, как жизнь требует: «Я тебе дам, и ты мне дай». При царе это называлось – частная инициатива, а по-нашему: дай человеку жить, он жить хочет; вот это экономика! У меня арматурщики целый квартал, пока новый кредит пришел, расписывались заместо нянек в яслях. Закон против жизни идет, а жизнь требует! Дал план, на тебе надбавку и премию, но, между прочим, и десять лет могут припаять. Закон против жизни, а жизнь против закона.
Молодые люди молчали, а когда прораб притих, вернее, не притих, а, наоборот, стал громко храпеть, они осудили его:
– К таким тоже следует присматриваться. Под маской братишки.
– Деляга. Беспринципный. Вроде какого-то Абраши.
Их сердило, что этот грубый, с глубинки человек относился к ним презрительно.
– У меня на стройке заключенные работают, они таких, как вы, придурками называют, а придет время и станут разбираться, кто коммунизм построил, окажется, вы пахали, – сказал им как-то прораб и пошел в соседнее купе играть в подкидного.
Четвертый спутник, видимо, нечасто ездил в плацкартном вагоне. Он большей частью сидел, положив ладони на колени, словно прикрывая заплаты на штанах. Рукава его черной сатиновой рубахи кончались где-то между локтями и кистями рук, а белые пуговки на вороте и на груди придавали ей вид детской, мальчиковой. Что-то смешное и трогательное бывает в этом соединении белых детских пуговичек на одежде с седыми висками, взглядом стариковских, измученных глаз.
Когда прораб сказал привычным к команде голосом:
– Папаша, пересядь от столика, я сейчас чай пить буду, – старик посолдатски вскочил и вышел в коридор.
В его деревянном чемодане с облупившейся краской рядом с застиранным бельем лежала буханка крошащегося хлеба. Курил он махорку и, свернув папироску, шел дымить в тамбур, чтобы скверный дым не тревожил соседей.
Иногда спутники угощали его колбаской, а прораб как-то преподнес ему крутое яичко и стопочку московской.
Говорили ему «ты» даже те, кто был вдвое моложе его, а прораб все подшучивал, что «папаша» выдаст себя в столице за холостого и женится на молодой.
Как-то в купе зашел разговор о колхозах, и молодой экономист стал осуждать сельских лодырей.
– Я теперь убедился своими глазами, соберутся возле правления и почесываются. Пока председатель и бригадиры погонят на работу, десятью потами обольются. А колхознички жалуются, что им на трудодень при Сталине вовсе не платили и что теперь еле-еле получают.
Профсоюзный инспектор, задумчиво тасуя колоду карт, поддержал его: