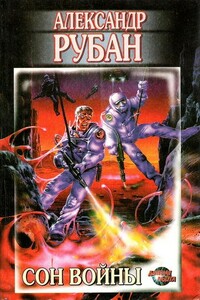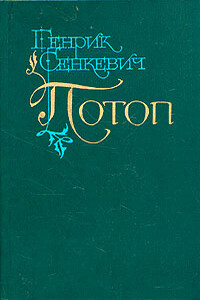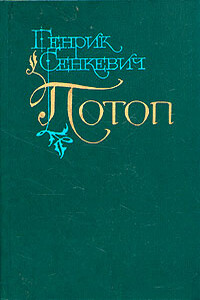Она развязала поясок, и вжикнула «молнией», и расстегнула последний крючок, и ярко-синее, в аляповатых цветочках и бабочках, платье воздушно упало к её ногам, а она легко переступила через эту воздушную аляповатость белыми — почти гипсово-белыми — ступнями антично-правильной формы. Когда Алексей смог наконец оторвать взгляд от ярко-синего с радужной пеной пятна у неё в ногах и медленно поднял глаза, как подросток поднимает пудовую гирю (стараясь показать, что ему это легко и ничего не стоит, а на самом деле напрягаясь изо всех своих мальчишеских сил), и когда их взгляды встретились, Алексей застонал (мысленно) и схватился руками за голову (тоже мысленно), и гибкий импортный карандаш отчётливо хрустнул в его побелевших пальцах, переломившись надвое. Всё что угодно ожидал он увидеть, только не это.
Под платьем он не видел ничего. НИЧЕГО.
— Прости, — сказал он сдавленным голосом. — Я не смогу… не сумею. Я был слишком самонадеян. Прости…
Он опять не помнил, как её зовут, и лихорадочно перебирал, беззвучно пробуя их языком и губами, все женские имена на «л»: Люба… Лада… Лариса… Лена… Леонсия (или такого нет?)… Лора… Это были ускользающие, рассыпающиеся звуки, существующие сами в себе и сами для себя, не имеющие ни смысла, ни значения. Алексей подозревал, что если даже он сумеет вспомнить её имя и будет абсолютно уверен, что вспомнил правильно, всё равно за этим именем не будет НИЧЕГО — ни серых внимательных глаз, ни чёрных локонов, небрежно схваченных широкой голубой лентой, ни матово-белых ступней античной формы, только что переступивших через ярко-синее невесомое платье.
Когда Юпитер в образе золоторогого быка похитил Европу, он знал, почему и зачем это делает, и не скрывал своих намерений. Рассекая ярко-синие волны Океана, он то и дело оглядывался назад, на свою вожделенную ношу. Он откровенно косился влажным киркоровским глазом на её полноватые ноги под сбившимся мокрым подолом и предвкушал, как своими ладонями раздвинет эти круглые колени, как горячи и шелковисты будут изнутри её бедра, и как она закричит страстно и благодарно, когда тело бога войдёт в её тело и горячее семя бога зачнёт в ней новую жизнь…
Наверное, всё дело было в том, что Алексей, в отличие от похотливого самовлюблённого бога, лгал. И даже не Лизе-Лауре лгал, а самому себе, своему естеству, легко поддавшемуся на обман. Лгал, когда, танцуя, прижимался своим животом к её животу — и его обманутая плоть реагировала на это так, как может реагировать мужская плоть. Лгал за столом, целуя её взасос на глазах у шефа и проворно шаря ладонью в её декольте. И в тесном салоне микроавтобуса, продолжая лгать, нагло и очень правдоподобно залез к ней под юбку.
И лишь говоря ей, что хочет нарисовать её обнажённую, Алексей говорил правду — но всё равно лгал. Ложью было то, что фраза прозвучала как предлог подняться к ней в комнату. А правдой, да и то лишь частью правды, было то, что ему хотелось нарисовать её обнажённую.
Ему хотелось рисовать.
Он давно, старательно и безуспешно прятал от себя это желание.
* * *
«Зачем живёт человек? Неужели только для того, чтобы зарабатывать на жизнь?»
Каждую пятницу Алексей задавал себе этот вопрос и уходил от ответа.
Пятница была днём получки в фирме «Окно из Европы». Хочешь — не хочешь, а надо торчать на рабочем месте и делать задумчивый вид, ибо никто не знает заранее, в котором часу придёт шеф и принесёт заветные конвертики. Специалисту по рекламе Алексею Чепраку — именно так он значился в ведомости на зарплату — своего конвертика хватало как раз до следующей пятницы.
Художником он себя уже не называл. Имел мужество не называть.
Художник — это тот, кто может рисовать. Причём, во всех смыслах «может». Желания, умения и даже таланта для этого недостаточно. Нужны ещё время и место. Студия. Большой светлый дом, а в доме — просторный высокий зал с окнами во всю северную стену. Или застеклённая мансарда на крыше пятиэтажки, в которой живёшь. Или, на худой конец, одна из комнат в собственной двухкомнатной квартире — и плевать, что окно выходит на юго-восток: можно зашторить или работать только во второй половине дня. Главное — чтобы никто не смел к тебе войти, когда ты работаешь. Чтобы никаких ковров на стенах и тем более на полу. Никаких платяных шкафов и комодов. Никаких телевизоров и гладильных досок. Только ты и твои холсты, и кофеварка на табурете в углу, где розетка.
И ещё нужна свобода, которая несовместима с осознанной необходимостью еженедельно приносить домой конвертик…
Ещё в марте у Алексея была студия — подвал заводского Дома Культуры. С потолками высотой всего два метра с четвертью и совсем без окон, зато весь. Безраздельно. А потом завод продал здание своего ДК какому-то ЗАО с крайне ограниченной ответственностью. В итоге Алексей потерял место оформителя, перестал быть художником, и ему ещё повезло, что он почти сразу устроился специалистом по рекламе в «Окно из Европы». Но офис фирмы был открыт только днём, а много ли наработаешь ночью на кухне, на листочках ватмана формата «А-четыре»? Для «А-третьего» кухонный стол был уже слишком тесен…