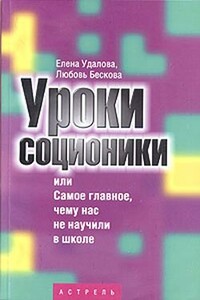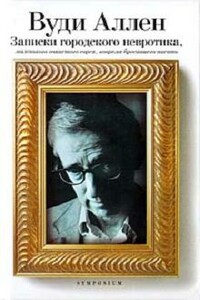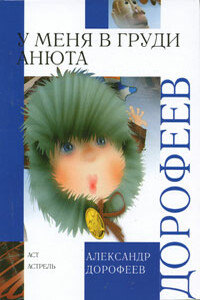Бежал Севка через улицу и споткнулся в дорожной пыли о что-то железное.
«Подкова! — удивился он. Постоял на босой ноге, тряся другую, зашибленную, и рассудил: — Подкова — это к счастью! Может, батька вернется или хоть письмо напишет с фронта».
Минула неделя, другая — нету счастья! Бабка знай причитает: «То белые, то красные… Разор и стынь. Придет зима — во что я тебя одену-обую, чем накормлю? Молчишь, Савостьян?»
Надоели Севке крапивные щи без хлеба, еще горше надоели бабкины причитания. Как ни прикидывал, как ни вертел, оставалась одна надежда — на подкову. Может, и есть в ней такая чудесная сила, чтобы враз переменить пустые щи на калачи…
Однажды появились на Севкиной улице двое верхоконных. Один придержал коня, свесился с седла:
— Парнишка, ты здешний?
— А то какой же? — задрал голову Севка. — С самого рождения на этой улице проживаю.
— Аж с самого рождения? Выходит, старожил, — усмехнулся всадник. — Тогда посоветуй, где разместить эскадрон. Квартирьерами нас послали.
— Какой еще экс… — запнулся Севка.
— Эскадрон — это, брат, кавалерия. Сотни полторы бойцов да столько же коней. Место ищем передохнуть. Не все ж воевать, надо и в баньке попариться. Опять же и коням отдых необходим. Забыли, когда расседлывали.
Севка сосредоточенно выслушал, сказал:
— Счастье твое, что на меня напал! Веди свой эскадрон прямиком сюда. Вон кирпичный завод пустует, — указал он рукой. — Видишь крыша на отлете? Это навес для сырца. Коням — в самый раз. А людей по домам поставим.
У Севкиной бабки разместился полувзвод. Трое на кровати, двое на лавках, остальные на полу. На ночь постелют свои палатки и — вповалку.
Двери не запираются, горит керосиновый фонарь. Случается, среди ночи заглянет дневальный, растолкает спящего, прикажет:
— К взводному командиру, быстро!
И в минуту боец одет. При шашке и карабине неслышно выскальзывает за порог.
А когда полувзвод в наряде, совсем пустеет дом. Кому выпадет дежурить по кухне — помогать кашевару дяде Андрею, кому в караул — охранять имущество эскадрона, а кому-то седлать лошадей и выезжать патрульными на дороги — время военное.
Бабка отворит окна и двери, ворчит:
— Табакуры! Не продыхнуть!
Парусом надувает цветастую занавеску у печи ветер-сквозняк, гонит вон махорочный дым и устоявшийся запах кожаной амуниции, солдатского и конского пота.
Знает Севка, что бабка ворчит не со зла, а лишь по привычке. Ведь в каждом из бойцов видится ей сын, Никифор Снетков, Севкин отец. Вот так же и он где-то по чужим людям, если живой. Тоже небось поделится с голодным хозяйским мальчонкой кашей ли, принесенной в котелке из походной кухни, рыбиной-таранкой, а то и побалует замусоленным кусочком сахару, как побаловал однажды Севку пожилой бабкин постоялец Кузьма Тетеркин.
Поселковая ребятня так и прилипла к эскадрону. Не сидит дома и Севка. То он у коновязей, где кавалеристы чистят лошадей, то крутится возле пушки, которая тоже оказалась в эскадроне, но чаще всего — в кузнице.
Поначалу эскадронный кузнец, дядя Архип, прогнал было Севку:
— Тут не кинематограф, чтоб глазеть. Конь поддаст копытом — и нет тебя, белобрысого…
Севка пулей домой. А обратно — с подковой.
— Может, сгодится?
— Добрая вещь всегда сгодится, — ответил Архип. — А знаешь ли ты, белобрысый, что подковы не дарят? В старину говорили, будто отдать подкову значит потерять свое счастье.
— Мое не потеряется, — нахмурился Севка. — Мать померла от тифа. От батьки с фронта скоро год ни слуху ни духу.
Так и познакомились. Севка особенно на глаза не лез, но умел в нужную минуту оказаться под руками у кузнеца: то клещи подаст, то побежит с топором толстой березовой коры запасти, которая в горне горит не хуже угля.
Часто случалось им ковать эскадронных лошадей. Дядя Архип, нагнувшись, чистит резаком копыта или примеряет подковы. Севка держит коня под уздцы. То погладит его, то прижмется щекой к теплой конской морде.
Привел однажды ординарец Сергей Гаврилов командирова Бурьяна. Не жеребец — сущий зверь.
— На левую заднюю расковался. Четверть часа сроку! — заторопил Сергей кузнеца.
— Четверть? — усмехнулся Архип. — Ой, врешь, бедовая голова! Такой глупости командир сроду не приказывал. Как, Савостьян, подкуем Бурьяна на твою дареную?
— Подкуем! — согласился Севка, любуясь гнедым.
Дядя Архип наклонился с клещами, чтобы старые подковные гвозди из копыта повыдергивать, а Бурьян выгнул шею да как хватит кузнеца зубами пониже затылка. Ременную лямку кожаного фартука — пополам!
— Балуй мне! — пригрозил, распрямляясь, кузнец. — У-у, зверюга! А ты, Сергей, если держишь, пошто разеваешь рот?
Откуда ни возьмись — Севка. Подкатился под коня, схватил ногу, крикнул: «Стоять!» Жеребец грозно покосился на мальчишку, но покорился, дал ногу.
— Ты, брат, отчаянный, — похвалил кузнец, приладив гнедому Севкину подкову. — Хочешь в кавалерии служить?
Севка промолчал. Понимал, что это пустой разговор: не примут, ростом не вышел!
Недолго кавалеристы стояли на отдыхе. Для Севки эти деньки мелькнули, как короткий миг. Однажды на рассвете горнист сыграл побудку.
— Сед-лай! — раздалась команда.
Выстроившись в колонну повзводно, эскадрон снялся на рысях.