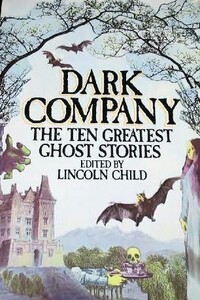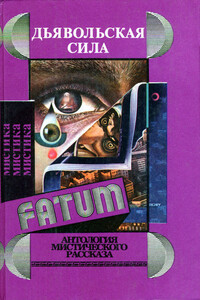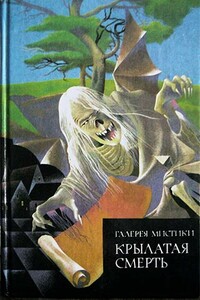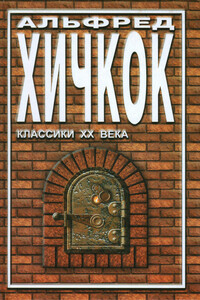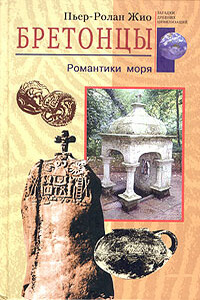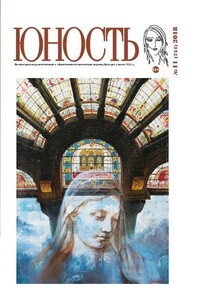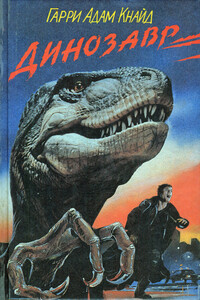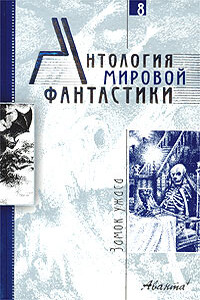Случись эта история столетие назад, и тогда Хеммеля могли предать мучительным пыткам, повесить или четвертовать, но в наши дни судебные эксперты-психиатры, вероятно, признали бы его невменяемым. У него было две странности: одна — физическая, другая — душевная. Физическая заключалась в том, что в свои сорок пять он был сед, как дряхлый старик, душевная же, более любопытная, сказалась в радикальном перерождении его личности. В упомянутом возрасте Хеммель унаследовал значительное состояние: зная, что он потворствует себе во всех слабостях, любит наслаждения, окружающие, естественно, предполагали, что этот сибарит будет жить в свое удовольствие, но все свои деньги тот стал тратить на благотворительные цели, а сам жил в крайней бедности, если не сказать — нищете. Разойдясь с прежними друзьями, он прожил двадцать лет в полном одиночестве, в одной-единственной комнате, даже не пытаясь оправдать свое странное поведение. На себя тратил ничтожную малость, лишь бы не умереть с голоду, все остальное раздавал. И объяснялось это не сознательной филантропией, религиозными соображениями и, уж конечно, не любовью к ближнему. Сам Хеммель не снисходил до объяснений, лишь однажды, когда я встретил его больного, истощенного, почти при смерти и посоветовал обратиться к доктору и больше о себе заботиться, он сказал:
— Я поступать так, как поступаю, — и, покачав седой головой, добавил: — Не то я буду обречен на вечные муки. Возможно, я уже обречен…
Меня сильно встревожило выражение его глаз. Порочное, как сочли бы многие, лицо Хеммеля было искажено невыразимым ужасом; тогда он мне показался совершенно затравленным человеком. Однако в тот раз он выжил и, несмотря ни на что, не изменил своего образа жизни. Хеммель протянул еще долго. И до самого конца жил тяжело и мучительно. Денег, оставшихся после его смерти, не хватило даже на гроб.
— Я был поступать так, как поступал, — шепнул он мне на смертном одре, — ведь это были не деньги. — И перед тем как его глаза окончательно сомкнулись и его душа покинула этот мир, успел добавить: — Я обречен на вечные муки.
Его сирота-племянник вот-вот должен был достичь совершеннолетия. Через месяц его опекуну, сорокапятилетнему тогда Хеммелю, предстояло дать отчет о состоянии, вверенном его попечению и уже наполовину им растраченном. По условиям завещания в случае преждевременной смерти племянника все права на наследство переходили к нему. Это натолкнуло его на ужасную мысль. Поначалу он с ужасом ее отверг, потом стал как бы не всерьез ее обдумывать, и, наконец, она так прочно укоренилась в его уме, что невозможное стало казаться возможным. До окончательного решения оставался всего один шаг, и Хеммель сам не заметил, как сделал его. Совместная прогулка в горы явилась удобным случаем для осуществления ужасного замысла: оставалось только выбрать подходящее место и слегка подтолкнуть племянника; в случае неудачи этот толчок можно было объяснить случайностью. Итак, в августовский полдень они вдвоем пробирались вдоль хребта Ротванд…
Подобные дни, казалось, самой природой созданы для беззаботного счастья и веселья: сверкающее солнце, цветы, белоснежные вершины на фоне лазурного неба, звон колокольчиков на шеях пасущихся далеко внизу коров — все это порождало почти детскую радость. Сказочно красивые горные пейзажи приводили юного Эрика в детский восторг. Он обожал эдельвейсы, но эти цветы избегают травянистых склонов — обычно они растут в холодных слоях воздуха, поднимающихся из глубоких, сумрачных пропастей. Наверное, это было ребячеством — искать на высоте семи тысяч футов эти роковые цветы, но в сердце юноши кипела радость молодости, и, не слушая предостережений дяди, он шел по самой кромке обрыва.
Он даже не подозревал всего ужаса своего положения, да и откуда ему было знать, что по пятам за ним следует сущий дьявол в облике человеческом. Поджидая удобного случая, Хеммель с почти маниакальной ненавистью следил за своей добычей. Ненависть эта, однако, была почти безличной — порожденная воспоминаниями о долгих годах труда, о бремени ответственности, о заботах и тревогах, принесенных ему опекунством, она к тому же усугублялась ужасным искушением, которое он испытывал, глядя на парня. Его извращенная, мрачная душа находила странные оправдания для задуманного им убийства.
Кристально прозрачный воздух вызывал в нем почти дьявольское раздражение. Он предпочел бы, чтобы все крутом застилали низкие облака и туманы, ибо хорошо знал, какой увеличительной силой обладают современные бинокли — вполне могло статься, что какой-нибудь зевака наблюдает сейчас именно за этим местом. Как и рассчитывал Хеммель, подходящий случай скоро представился; долгие недели, денно и нощно, он старался крепить свою решимость, и в нужный миг его жестокое сердце не дрогнуло. Выношенный в душе замысел осуществляется, когда настает время, почти мгновенно. Желание, многократно исполнявшееся в воображении, осуществляется импульсивно, без каких бы то ни было раздумий или приготовлений, убийца оправдывает себя доводом: «Я просто не мог не исполнить задуманного, это было сильнее меня». Слегка подтолкнуть идущего впереди юношу было так тривиально просто, что казалось чем-то почти естественным, само собой разумеющимся: всего-то и делов — неловко взмахнуть рукой, будто теряешь равновесие, и вот уже молодое тело зашатаюсь, упало и заскользило к краю пропасти, зияющей шестью футами ниже.