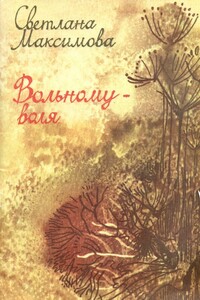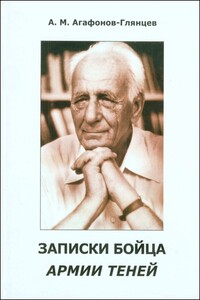Дедовы пиры
Бабушка, я помню, на пирах
Песню запевала в свой черед:
«Все, что на земле уходит в прах,
Внученька, на облаке взойдет».
А когда пускалась, было, в пляс,
Все ступить на облако сама
Норовила. И сосед не раз
За подол хватал: «Сиди, кума!»
Ну, а я на пире из пиров
Восседала во главе стола
На колене дедовом – таков
Был обычай нашего села.
Но какие б ни были пиры,
Кто-то оставался в дураках.
До утра стучали топоры –
Дивный сад всходил на облаках.
Только снова дед мой пировал,
Хату сотрясая до стропил.
А в ночи он снова наповал
Дивный сад на облаке рубил.
Деду силу некуда девать,
Деда, право, лучше не гневить.
Все роскошней утром дерева,
Все призывней кличут соловьи.
Кличет сад, но нет возврата мне –
Ветром предрассветным отнесло
Сад на облаке и отчее село,
Только дед в степи сидит на пне.
***
И опять забываюсь
у всех на виду
и вдоль пыльной дороги
бреду и бреду.
И все чаще я
опускаю глаза,
но тогда все равно
все мне чудится небо,
лишь небо одно
Высочайшее.
Словно в детстве моем,
в тихом детстве моем
в степь выходит беленый
наш дедовский дом.
По-степному зовется он хатою.
И ворота скрипят на ветру заревом,
И цыганка поет
у ворот об одном:
«Мой любимый,
рубиновый,
яхонтовый…»
И уводит цыганка из дома отца.
И уводит цыган со двора жеребца.
И ворота вослед им распахнуты.
Ну, а я все реву
у скрипучих ворот
лишь о том,
никто не споет:
«Мой любимый,
рубиновый,
яхонтовый…»
Если степь перейти –
будет сумрачный бор.
Я и руки к груди,
и потупивши взор –
как зашла в беспробудные чащи я?
И порою глаза опущу – все равно
все мне чудится небо,
лишь небо одно
Высочайшее
Старушки
Та улица, в оконцах с пеной кружев,
Знакома от угла мне до угла.
Я помню, много жило там старушек,
Когда еще я маленькой была.
Цвели их лики в стираных платочках,
И вяли два сатиновых конца,
Как два последних белых лепесточка
Под желтой сердцевиною лица.
Старушки те зимою выносили
Мне яблоки, шепча: «С тобой Господь…»
И стриженый затылок мой крестили,
Сжимая с добрым семенем щепоть.
Они сердечко рыженькой девчонки
Учили милосердью и любви.
Их теплые морщинистые щеки
Так помнят губы детские мои.
Не знаю – чем мое кончалось детство…
Наверное, старушками. В тот миг
За город уплывали без оркестров
В соцветия ромашек лики их.
С тех пор лишь зацветает у дороги
Платочками старушечьими луг,
Я теплые морщинистые щеки
Губами
вспоминаю
вдруг.
Слепые дожди
Слепые нищие дожди
Бредут,
бредут по всей округе.
В зрачках затопленных ни зги
И тянут ливни к солнцу руки.
Как дети малые почти,
В своем неведенье не каясь,
Слепые слабые дожди
Идут,
на солнце натыкаясь.
И вновь, промокнув до костей,
По полю девочка босая
Поводырем слепых дождей
Идет. на пашне увязая.
Последняя поляна
Мы долго шли, протяжен был запев –
Наш путь к последней ягодной поляне.
Из-под руки, бывало, мама глянет –
Да и замрет, тропы не разглядев.
Я видела – она едва брела.
Мы вышли с нею ночью в полнолунье,
Как надлежало ей. Она колдуньей
Была и на плече несла щегла.
В своей глуши не ведали мы нив,
Но мать иною ведала казною –
Ее рука, сверкая белизною,
Вела меня, полмира отстранив.
В лесу светало. Плача и смеясь,
Губами собирала я до крошки
Комочки неба с маминой ладошки.
И ежевикой ягода звалась.
И ежечасно назывался кров
То кроной, то крапивою, то тленьем.
И возникали локти и колени
Мгновенными просветами миров.
Гордилась я, что плоть, как свет, бела
От локтя колдовского до березки,
Что я году свою по малоросски
Я называть ожиною могла.
Я все могла, но более всего
Умела я счастливо жить на свете.
Зайти с колдуньей в дебри на рассвете
И не вернуться вечером в село.
Тем более, что будет ночь тепла,
И будет жизнь во благо длинной-длинной,
Чтоб вечно, вскинув руки под калиной,
Колдунья светом солнечным цвела.
Брат
Мне десять лет. Свою судьбу
Я вижу всю, как на ладони.
До боли закусив губу,
Я молоко тащу в бидоне.
И бьется об ноги бидон,
И молоко в сапог стекает…
Как нескончаем птичий стон,
Как молчалива и дика я.
А плечи детские остры.
А исподлобья – ну и взгляд же!
Иль не такой хотел сестры
Мой вечный брат, мой вечный младший?