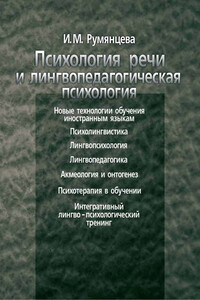Рихман опаздывал. Ковальчик посмотрел на часы. Он любил добротный швейцарский хронометр, потому что это была единственная награда, на которую, как он полагал, он имел полное право. Остальные ордена и звания он получил за то, что по его приказу делали другие. Эту он заслужил сам.
Сзади, на платиновой крышке было выгравировано:
«ЗА ХРАБРОСТЬ»
«Международный союз астронавтов»
Он был единственным, кто вернул корабль на Землю из экспедиции. Она длилась двадцать два года — по земному времени и пятнадцать — по судовому. Разницу съел старик Альберт.
Он привел корабль с восемью членами экипажа, меньше трети, но все равно неплохо. Еще за орбитой Марса их было одиннадцать, но двоих он собственноручно расстрелял на подходе к Базе, а еще один покончил с собой, бросившись на распределительный щит. Довольно неприятный способ самоубийства и сложный — не так-то просто снять крышку с распределительного щита на корабле, но этот как-то ухитрился. Выскребал его оттуда Ко-вальчик тоже собственноручно.
Об этом он никому не рассказывал. Впрочем, кому надо, те и так знали — все было зафиксировано в бортовом журнале.
Все знали…
Вот тогда-то он и получил эти часы. И благодарность от правительства. И неплохой пост в МСА. И пенсию. И еще черт те чего.
Потому что остальные корабли не вернулись.
Его отчет был единственным…
А он еще боялся военного трибунала, дурак… Когда он сидел в карантине, который считал заодно и следственным изолятором, и молоденький, с иголочки, лейтенант привел его перед ясные очи комиссии, он сгрыз ногти чуть не до локтей.
Теперь он здесь…
Потому что тогда он вернулся. И написал отчет. И еще потому, что на Земле уже более полувека не было крупных войн — только локальные конфликты в странах третьего мира, но это не в счет. И вся нерастраченная в больших и малых заварушках энергия человечества ушла на освоение дальних пространств.
Его корабль был третьим по счету, и еще два корабля ушли с орбиты уже после того, как «Энтер-прайз» покинул пределы Солнечной системы. И ни один не вернулся.
Кроме его корабля. Кроме «Энтерпрайза».
Когда вошел Рихман, Ковальчик снова взглянул на часы.
Демонстративно.
Рихман опоздал на семь минут, и даже не извинился.
И руки не подал — просто стоял и смотрел на Ковальчика. В его взгляде читалась брезгливость — Ковальчик к этому привык.
— Я вам не нравлюсь, Рихман, верно? — равнодушно спросил он. Рихман ему тоже не нравился. Плевать — лишь бы от этого был хоть какой-то толк. Тем более, говорили — он лучший.
Рихман, нужно отдать ему должное, не стал отпираться.
— Естественно, — сказал он. — Что тут может нравиться. Вы насели на директора, он насел на меня. По своей воле я бы сюда не пришел. Вы — маленький фюрер. Еще счастье, что у вас все-таки ограниченная власть.
Ковальчик пожал плечами.
— Власть у меня, кстати, практически неограниченная. В подведомственном мне Проекте. Бросьте, Рихман, вы же психолог. У вас, немцев, просто-напросто национальный комплекс вины. Вам не нравятся жесткие методы…
— Какой там, к черту, комплекс? Я вчера весь вечер читал отчеты — вы утопили корабль в крови. У вас руки в крови, Ковальчик.
Ковальчик неторопливо приблизился к нему. Глаза у него были светлые, почти прозрачные, с черным ободком вокруг радужки.
Наверняка он все еще нравится женщинам, ни с того ни с сего мелькнуло в голове у Рихмана.
— Верно, — сказал Ковальчик, — я утопил корабль в крови. Иначе нельзя было. Я прошел через ад, Рихман. Я до сих пор ночью просыпаюсь в холодном поту. Я слышу их голоса.
Он твердыми пальцами взял Рихмана за подбро-док и какое-то время молча смотрел ему в глаза, пока тот, не выдержав, не отвел взгляд.
— И я сделаю все, слышите — все! — чтобы больше не повторилось ничего подобного.
— Ваш проект — безумие…
Ковальчик усмехнулся, показав крепкие белые зубы.
— Безумие — это по вашей части, Рихман. Потому мы и вышли на вас.
— Я уже говорил это на совещании, скажу еще раз. Методика опробована на отдельных больных, а не на целых группах…
— Но ведь вы не будете иметь дело с больными, Рихман. Вы будете иметь дело с астронавтами, а они очень здоровые люди. Не так уж и велики эти группы. Человек по тридцать, не больше. Четыре экспериментальных экипажа.
— Я еще умею считать, — сухо сказал Рихман.
— А! — произнес Ковальчик, — Я понял! Вы из тех, кто считает, что космические полеты не нужны, верно? Пустая трата человеческого материала…
— Да… материала, — Рихман вложил в это слово всю возможную иронию, но, похоже, без толку — Ковальчик не понимал иронии. — К чему вообще такая судорожная активность? Еще немного, и многие вопросы решатся сами собой. Ваш проект никому не понадобится, потому что человек изменится… он станет совершенным…
— Не пойму я вас, — произнес Ковальчик, пожав плечами, — с одной стороны, насильственное вмешательство в психику вам претит. Уж больно, мол, тонкие материи. С другой — вы, видно, из тех, кто тогда голосовал за имморталии. А ведь это — покушение на саму природу человека.