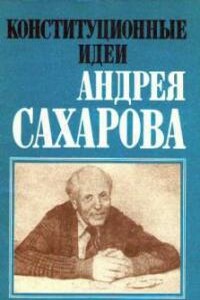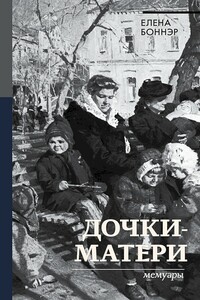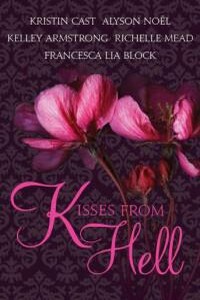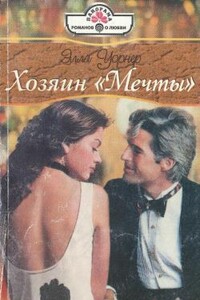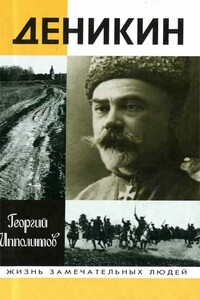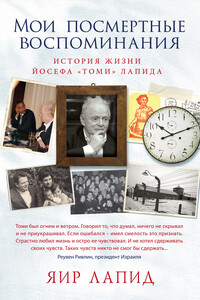Давайте начнем с начала войны. Вам было восемнадцать лет, и вы были студенткой-филологом, то есть представителем самой романтизированной прослойки советского общества. Тех, кто «платьица белые раздарили сестренкам своим» и ушли на фронт.
Да, я была студенткой вечернего отделения Герценовского института в Ленинграде. Почему вечернего отделения? Потому что у бабушки было трое «сирот 37-го года» на руках, и надо было работать. Полагалось, чтобы учеба каким-то боком соприкасалась с воспитательной, школьной и прочей работой. И меня райком комсомола направил на работу в 69-ю школу. Она располагалась на улице, которая тогда называлась Красной, до революции называлась Галерной, сейчас снова Галерная. Она упоминается у Ахматовой в стихах:
«И под аркой на Галерной
Наши тени навсегда».
Эта арка в начале улицы — между Сенатом и Синодом — выходит прямо к памятнику Петру. Это была вторая моя трудовая площадка. Первая трудовая площадка была в нашем домоуправлении, я работала на полставки уборщицей. Это был дом с коридорной системой, и на меня приходились коридор третьего этажа и парадная лестница с двумя большими венецианскими окнами. Я очень любила мыть эти окна весной, ощущение радости было. Во дворе рос клен, была волейбольная самодельная площадка, где мы все, дворовые дети, развлекались. И я мыла окна.
А то, что вы были ребенком врагов народа, не мешало вам работать в штате райкома комсомола? Вы не видели в этом противоречия?
Это мне не мешало быть и активной комсомолкой, и работать в штате райкома комсомола старшей пионервожатой. Меня в восьмом классе выгнали из комсомола за то, что я на собрании отказалась осуждать моих родителей. А я, когда отправилась в Москву отвезти им передачи (на пятьдесят рублей раз в месяц принимали, и все), пошла в ЦК комсомола. Там со мной поговорила какая-то девушка (наверное, это было уже после того, как Сталин сказал, что дети за отцов не отвечают, а может, и раньше — не помню). И, когда я вернулась в Ленинград, меня снова вызвали в райком и вернули мой старый комсомольский билет — восстановили. Заодно и других ребят. Про работу в домоуправлении тоже надо сказать. В доме был совет жильцов, какое-то общественное самоуправление. Вера Максимова, жена морского офицера, была его председателем. Она очень хорошо относилась и ко мне, и к моему младшему брату, и к младшей сестренке именно потому, что мы были детьми «врагов народа». Когда бабушка умерла в блокаду — Игоря до этого бабушка отправила со школьным интернатом в эвакуацию, а маленькую Наташку взяла бабушкина сестра, — осталась пустая комната. И эта самая Вера Максимова еще до того, как я прислала какие-то документы о том, что я в армии и нельзя, значит, занимать жилплощадь, написала заявление, что я нахожусь в действующей армии и поэтому жилплощадь за мной сохраняется.
Большая редкость.
Да, да, редкая семья1.
И вот начинается война. Сейчас большинству представляется, будто немедленно сотни тысяч людей начали записываться добровольцами. Вы помните это?
Это большая ложь — про миллионы добровольцев. Добровольцев в процентном отношении было ничтожно мало. Была жесткая мобилизация. Всю Россию от мужиков зачистили. Колхозник или заводской работяга — те миллионы, которые полегли «на просторах родины широкой», были мобилизованы. Только единицы — дурни интеллигентские — шли добровольно.
Я была мобилизована, как тысячи других девчонок. Я училась в Герценовском институте, и некоторые лекции, «поточные», проходили в актовом зале. И над сценой актового зала все время, что я там училась, висел плакат: «Девушки нашей страны, овладевайте второй, оборонной профессией». Овладение второй, оборонной профессией выражалось в том, что был предмет «военное дело». Для девушек были три специальности: медсестра, связист и снайпер. Я выбрала медподготовку. И надо сказать, что военное дело в смысле посещаемости и реальной учебы было одним из серьезнейших предметов. Если ты прогуляешь старославянский, тебе ничего не будет, но если ты прогуляешь военное дело, тебя ждут большие неприятности. У меня как раз к началу войны закончился этот курс, и я была поставлена на воинский учет.
Где-то в конце мая я сдала экзамены. Надо сказать, что этот диплом я потеряла. Когда я уже была старшей медсестрой на санпоезде и наш поезд проходил капитальный ремонт в Иркутске, мой начальник сказал: «У тебя нет диплома, при том что уже есть звание. Иди на здешние курсы и сдавай экзамен прямо сразу, с ходу». Он сам договорился, и я сдала экзамены гораздо лучше, чем в институте; по-моему, там одни «пятерки» у меня. Так получилось, что у меня иркутский диплом.
Это какой год?
Это зима 1942–1943-го. Я из нее помню одну деталь. Поезд стоял на ремонте в депо «Иркутск-2». Экзамены сдавали в городе, в помещении Иркутского пединститута, где был расположен госпиталь. В этом госпитале мы работали, там же я сдавала экзамены. Как-то вечером я шла к вокзалу по маленькой улочке, там такие дома, типа пригородных, деревенских, с заборами. И лавочка. И на лавочке сидела девочка лет девяти, закутанная в шубу. Рядом с ней — маленький мальчик. И она пела песню: