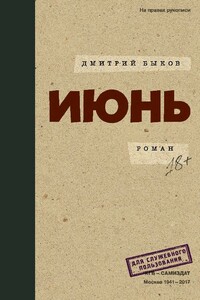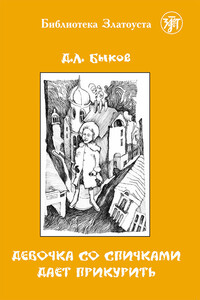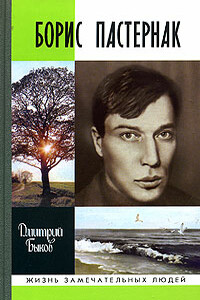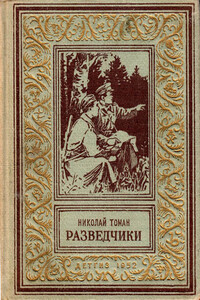Количество пошлостей, вылитых на Набокова по случаю его столетия, можно было предвидеть. Некто Михаил Шульман выпустил в издательстве «Независимая газета» свое стостраничное эссе о Набокове, за два года до того напечатанное одним малотиражным питерским журналом. На протяжении всей книги Шульман, чередуя претенциозные туманности с фактическими ошибками, доказывает, что главной темой Набокова была потусторонность. Но чтоб до истин этих доискаться, писал поэт, не надо в преисподнюю спускаться. А Дмитрий Бавильский на полуполосе «Литературной газеты» утверждает, что Набоков был обычным русским классиком, что теперь его читают в основном дети и что вместо холодной мизантропии им двигала теплая человечность. Все это изложено слогом несостоявшегося лирика, изобилует придаточными предложениями и упоминаниями бабочек. Вообще в любом разговоре о Набокове бабочки мелькают с той частотой, какую и в Альпах увидишь не во всякий полдень. Упоминается набоковский либерализм, подробно разбираются его тяжеловесные и не всегда удачные анаграммы и каламбуры, отыскиваются новые аллюзии в «Аде». Вполне в духе времени происходит понятный откат на позиции человечности, любви к людям и загадочной теплоты. Прежде любимец снобов, кумир интертекстуалов, Набоков на глазах опрощается и только что не входит как родной в сакли, чумы и яранги. Если раньше модно было писать о его стиле, отточенности, аллюзиях, цитатности, одиночестве и пр., сегодня в моде его антифашизм, семейственность, сынолюбие, заступничество за советских диссидентов и широкая улыбка, столь часто мелькающая в воспоминаниях его американских студентов. Судя по их мемуарам, бедным лексически и стилистически, ничему особенному он их не научил. И, видимо, прав был Виктор Ерофеев, говоря, что солнце нашей эмигрантской словесности был неважным преподавателем, склонным тонуть в мелочах. Какая разница, как был устроен железнодорожный вагон времен Анны Карениной и какой в точности породы был кафкианский жук в «Превращении»? Набоковские рассуждения о романном времени у Толстого – лучшее в его педагогическом наследии, а только что вышедший по-русски комментарий к «Онегину», при всей своей фундаментальности, ничего не прибавляет к пониманию природы пушкинского дара. У Набокова Пушкин выглядит ходячим цитатником более или менее посредственной западноевропейской прозы и античной поэзии. Буквоедство Набокова-профессора лишь изредка сменяется остроумием и непосредственностью Набокова-писателя; в общем, свежие и обширные юбилейные публикации его текстов мало что добавляют к образу писателя и не особенно возвышают его в глазах поклонника.
И зачем вообще писать о Набокове? Никто еще, кажется, не задумался над парадоксом: почти все написанное о нем – скучно. Толстенный том «Набоков: pro и contra» способен отвратить от писателя и самого упертого его аматёра, а собственные набоковские интервью, составляющие сборник «Strong opinions» (я рискнул бы перевести как «Сильно сказано»), значительно уступают его же статьям берлинского периода. Вообще с Набоковым случился своеобразный перевертыш, очередная «бабочка» судьбы – почти все его англоязычные романы значительно слабее русских (может быть, за исключением последних глав «Лолиты»), зато все русские рассказы значительно уступают англоязычным. Тут как раз есть о чем подумать – даже лучшие русские новеллы Набокова, вроде несостоявшегося романа «Ultima Thule» или такой прелестной вещи, как относительно ранний «Подлец», рядом не лежали с такими шедеврами многозначности и лаконизма, как «Условные знаки» или «Сестры Вейн». Видимо, особенности его английской прозы – густота, обилие отсылок и каламбуров, некоторый цинизм отчаявшегося, уставшего человека – лучше смотрятся на малом пространстве, тогда как музыкальное ощущение жизни, столь необходимое романисту, с отказом от «ручного русского» и переездом из старой Европы в Новый Свет было утрачено окончательно.
Но все эти размышления не тянут на полновесное эссе, которое – повторюсь – и писать незачем. Еще Ходасевич заметил, что Набоков своим основным приемом сделал разоблачение приема, допустил читателя в мастерскую, где сотни приемов, как эльфы, мельтешат, перетаскивают, приколачивают,- словом, сеанс магии происходил одновременно с разоблачением, отчего читатель и чувствует себя как бы допущенным, приобщенным, ему по-товарищески подмигивают… Не всякому хватает такта выдержать такое обращение: иной полагает, что подмигивают именно ему и он один теперь все знает. Дудки: Набоков ЛЮБОГО читателя делает соучастником, прямым собеседником, любит (особенно в «Других берегах») обратиться к нему напрямую – поэтому эмоции его так заразительны. Читатель вовлечен в заговор, и оттого, полагаю, даже самый убежденный любитель зрелых матрон возбуждался при чтении «Лолиты»: так соучаствовать не вынуждал нас никто из предшественников и последователей, и ни в чьей творческой кухне нам не было так уютно. Набоков отказался от тьмы ненужных условностей, приблизив литературу к читателю, как никто до него: игра происходит на наших глазах, правила соблюдены, мы участвуем в ней на равных с автором. Это ни в коей мере не отменяет нежности, сострадательности, мучительности набоковских книг (и только каменный читатель не плакал при чтении отступления о Мире Белочкиной в «Пнине» и не содрогался при чтении «Bend sinister») – но все, что можно было о них сказать, Набоков уже сказал. Это единственный русский писатель, который интерпретировал себя полностью и все о себе договорил до конца. Последователям, исследователям и преследователям делать нечего – только бессильно эпигонствовать. Я сам отлично помню, как с тогдашней возлюбленной (и уж, конечно, не за столом) сочинял мистификацию о приезде Набокова в Россию. Мы подделывались под его стиль, как могли, и сочинили-таки от его лица вполне набоковообразное послесловие к «Взгляни на арлекинов» – о том, как он в 1972 году приехал в Питер, но до Рождествена и Батова не доехал, потому что – зачем? Это значило бы только убить воспоминание… Мы были очень собой и друг другом довольны, но потом взяли с полки набоковский том – в надежде убедиться, что у нас не хуже,- и открыли его на строчке «Солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи». «Ну же ты скотина!» – воскликнул я. Да, вычурно, но какова точность жеста и как сразу все видно! Так что и эпигонам тут делать нечего – подражать Набокову еще бесполезней, чем имитировать Платонова или косить под Бродского.