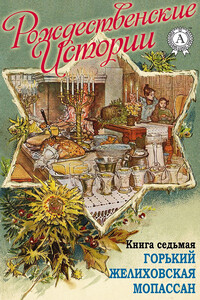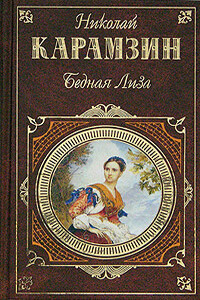В зеленоватую воду моря брошена – как желтый лоскут атласа – маленькая песчаная отмель; перед нею – на гаг – безбрежная стеклянная гладь, сзади нее – полоса ослепительно светлой воды, дальше – низенькие медные холмы берега, на холмах убогая поросль каких-то безымянных прутьев, а еще дальше, среди горячих песков, – грязные пятна строений рыбного завода.
День такой яркий, что даже отсюда, с отмели, видно, как там, за версту, на холмах, сверкает серебряными искрами рыбья чешуя.
Жарко – точно в бане; чайки, разморенные зноем, похожи на куриц; они бродят по отмели, раскрыв клювы, лениво распустив кривые крылья, и лишь изредка хрипло вскрикивают, задыхаясь. Едва слышно шумит и плещется вода, облизывая отмель низенькими, в четверть аршина, волнишками.
Тихо, точно после великого несчастия, тихо и пусто.
Изнывая от жары, на влажном песке растянулся, закрыв белесые глаза, сергачский человек Баринов, он ворчит, дремотно поучая меня:
– В думах моих я все земли прошел, все моря переплыл; в думах моих я все грехи изведал…
Я слушаю и не верю ему, – он человек робкий, на людях ведет себя подхалимом, а когда говорит с приказчиком завода, то у него дрожат ноги и голос ласково взвизгивает. Он мужчина ленивый, как буйвол, неустанно рассуждающий и чрезвычайно волосат; его плоское курносое лицо – в шерстяной маске песочного цвета, из широких, точно у верблюда, ноздрей торчат рыжие шерстинки, из ушей – тоже, голая, медная от загара грудь заросла, как у медведя, даже на суставах пальцев растут густые кустики волос. Ноги у него кривые, портновские, руки – длинны и толсты, как ноги; ему, должно быть, очень удобно ходить на четвереньках.
Но это очень добродушный, очень смирный зверь; когда товарищи бьют его за лень и ротозейство, он, перекатываясь бочонком под ногами у них, только просит» не сердясь и не жалуясь:
– Да будя, братцы, будя! Ну, побили, ну и ладно… Его лысая голова туго повязана красным; издали кажется, что череп его лишен кожи.
– А в жизни я – пустой человек, – справедливо говорит он, не интересуясь, слушаю ли я его. – Пустой, как бубен, ударят – отвечаю, не трогают – молчу…
Он как будто бредит, я тоже в полусне. Над нами очень синее небо, вокруг – зеленоватое море, как будто и под нами небо. А мы, на атласном куске отмели, висим в бездонной пустоте, точно на самолете-ковре.
Но ковер-самолет неподвижен. И в душе тоже всё неподвижно.
Версты за полторы впереди такая же отмель, как наша; ее было бы не видно в массе расплавленного, горячо сверкающего стекла, но по ней ходит темная фигура, будто плавая в воздухе. Это – наш третий товарищ, какой-то восточный человек, перс или армянин из Персии, его зовут Изет. По-русски он почти не говорит, но прекрасно понимает всё, что ему приказывают, – очень удобный человек.
Нас, троих, послали с завода на отмель, чтобы снять с нее оставленные утром снасти, но Баринову и мне лень было ехать так далеко по жаре, мы залегли на ближайшую к берегу мель, а Изету приказали ехать за снастью; послушный, как смирная лошадь, он поехал.
– Мне сорок пять годов минуло, – бредит Баринов, потягиваясь, – я столько всякой всячины видал, что иному губернатору и то хватит. А спроси меня – к чему все? Так я тебе этого не скажу. Томаша одна. А ты говоришь – народ…