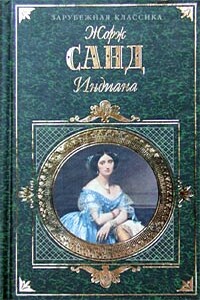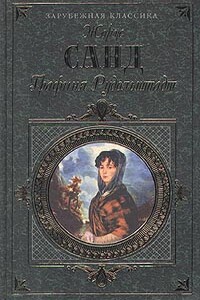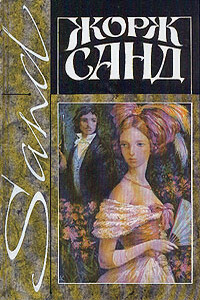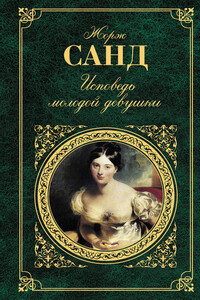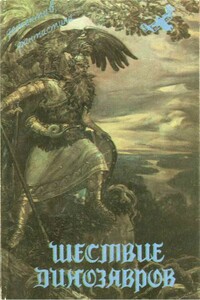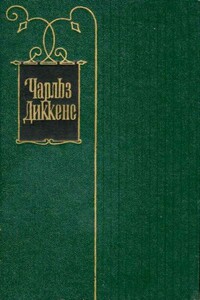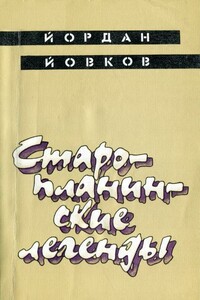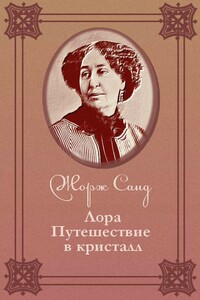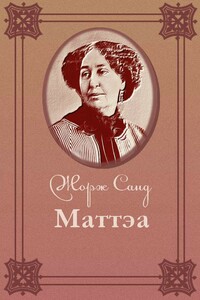Так как мне придется, в силу весьма понятных побудительных причин, скрыть под вымышленными фамилиями имена всех действующих лиц настоящего рассказа, то я надеюсь, что читатель согласится не требовать от меня никакой географической точности. Существует несколько манер повествования. Одна манера состоит в том, что вам показывают тщательно исследованную и верно описанную страну, и, в одном отношении, эта манера самая лучшая. Благодаря подобному приему, роман, за которым так долго держалась репутация вздорной вещи, может превратиться в полезное чтение, и я держусь того мнения, что если называешь действительно существующую местность, то описывать ее следует крайне добросовестно. Другая же манера, хотя и не впадает в полную фантазию, все-таки воздерживается от точного указания маршрута и настоящих мест, где происходят главные сцены. Она бывает иногда и предпочтительнее для передачи другим вами уже испытанных впечатлений. Первая манера довольно удобна для постепенного развития поддающихся анализу чувств, тогда как вторая предоставляет более широкий простор порывам и нескладности пылких страстей.
Впрочем, я даже не мог бы позволить себе свободный выбор между этими двумя приемами, потому что я собираюсь описать историю скорее просто пережитой, чем объясненной страсти. Страсть эта произвела во мне такое смятение, что еще и теперь я вижу ее через какую-то дымку. Это было двадцать лет тому назад. Я носил с собой эту страсть по разным местам, которые казались мне то великолепными, то печальными, смотря по моему душевному настроению. Случались также такие дни, а может быть и недели, что я жил, не зная хорошенько, где я именно. А потому я воздержусь от восстановления, с помощью холодных розысков или тяжелой нашей памяти, подробностей этого прошлого, когда и во мне самом, и вокруг меня всё лихорадочно переменялось. И, может быть, выйдет недурно, если на моем повествовании отразятся немного та неурядица и те сбивчивые понятия, которые были моей жизнью в течение тех ужасных дней.
Мне было 23 года, когда мой отец, профессор литературы и философии в Брюсселе, разрешил мне провести целый год в путешествиях. Делая это, он настолько же уступал моему желанию, насколько и одному серьезному соображению. Я хотел заняться литературой, и на мою долю выпало редкое счастье: родные мои верили в мое призвание. Я чувствовал потребность взглянуть на жизнь и проникнуть в жизнь вообще. Мой отец сознался, что наша мирная среда и наше патриархальное существование представляли весьма узкий горизонт. Он поверил и дал свободу нетерпеливому коню. Мать моя плакала, но тайком от меня, и я уехал, увы, навстречу всяким нравственным опасностям!
Образование я получил частью в Брюсселе, а частью в Париже под надзором брата моего отца, Антонина Валиньи, выдающегося химика, который умер еще молодым, в то время, как я уже кончал курс в училище св. Людовика.
Я нимало не любопытствовал взглянуть на современные очаги цивилизации, я жаждал поэзии и живописности. Мне хотелось осмотреть сначала великие памятники природы в Швейцарии, а потом великие памятники искусства в Италии.
Первым и почти единственным визитом, сделанным мной в Женеве, был визит к одному другу моего отца, сын которого был в Париже моим товарищем и сердечным другом. Но юноши писать, обыкновенно, не охотники. Анри Обернэ первый стал пренебрегать переписываться со мной, а я последовал этому дурному примеру. Когда я стал разыскивать его на его родине, мы уже не писали друг другу несколько лет. Вероятно, я не стал бы очень его разыскивать, если бы отец, прощаясь со мной, не посоветовал мне настоятельно снова возобновить с ним сношения. Г. Обернэ-отец, профессор в Женеве, был поистине выдающийся человек. Сын его подавал большие надежды. Родители наши искренне любили друг друга. Наконец, мать моя желала знать, по-прежнему ли маленькая Аделаида мила и хороша. Я угадал, что тут кроется если и не настоящий план, то, по крайней мере, тайное желание, чтобы я женился, и хотя я нимало не был расположен начинать с конца роман моей молодости, тем не менее, из чувства любопытства, примешавшегося к чувству долга, я явился к профессору.
Анри я там не нашел, но родители его приняли меня, точно я был его братом. Они оставили меня обедать и заставили поселиться у них. Они жили в той части Женевы, которая зовется старым городом и которая в ту эпоху была еще так характерна. Отделенный от католического города, и от новой жизни, и от Караван-сараев туристов, город Кальвина возвышался на холме со своими строгими домами и тесными садами, осененными высокими стенами и стрижеными шпалерами. Тут не было ни шума, ни любопытных, ни ленивых зевак, а следовательно, не было и той сутолоки, которой отличается современная промышленная жизнь. Жилища состоятельных людей отличались здесь вообще тишиной, присущей кабинетным занятиям и религиозности или кропотливым работам. Домашняя жизнь отличалась гостеприимством, не заходящим, однако, далеко за пределы, и гордо-задумчивым благосостоянием.
Дом семьи Обернэ представлял из себя смягченный и несколько тронутый современностью тип этой почтенной и серьезной жизни. Главы семейства, а также их дети и их близкие друзья, протестовали против преувеличения внешней суровости. Слишком ученый для того, чтобы быть фанатиком, профессор следовал культу и обычаям своих предков, но его образованный ум далеко проник в мир изящного и прогресса. Его жена, гораздо более хозяйка, нежели ученая женщина, питала тем не менее столько же почтения к науке, как к религии. Достаточно было того, чтобы Обернэ предавался известным занятиям, и она смотрела сейчас же на эти занятия, как на самые важные и самые полезные в жизни честного человека, а когда этот глубокоуважаемый муж, желая отдохнуть от трудов, просил окружить себя некоторой непринужденностью и веселостью, она наивно стремилась удовлетворить его желание, убежденная, что трудится во славу Божию, раз она трудится для него.