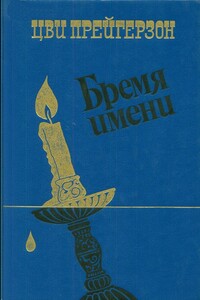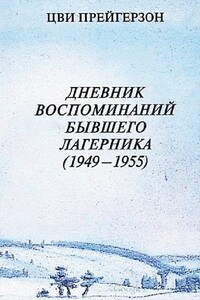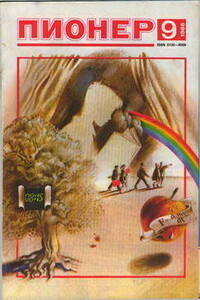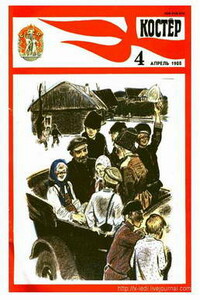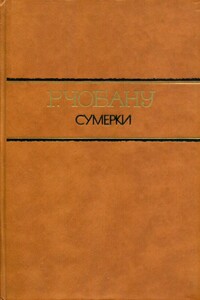В третий день месяца Тишрей, как раз на пост Гедалии, исполнилось Лизаньке девять лет, а в субботу праздничной недели Суккота пришли в родительский дом убийцы. Местечко плавало тогда в еврейской крови, и со всех сторон слышались крики истязаемых. Убийцы пришли ночью, когда лишь луна стучалась в темные окна дома. Они сунули Лизаньке в кулачок две спички, у одной из которых была отломана желтая головка, и отдали маму с отцом на волю жребия. Обломанная спичка выпала отцу — он сам вытащил ее из сжатого кулачка дочери. Его повесили на крюке, где до того висела большая лампа. Убийцы сорвали лампу, поставили папу на стол, затянули вокруг его шеи галстук смерти, а затем выбили стол из-под ног. Мама где-то кричала странным криком, отец дергался на веревке, и один из убийц подпрыгнул и, обхватив тело руками и ногами, стал раскачиваться вместе с повешенным.
После этого убийцы забили до смерти мать. Такова была суббота праздничной недели Суккота; осень шушукалась в огороде с увядшей ботвой, и тени ужаса бродили по пустым грядкам. После этого Лизанька несколько лет скиталась по большому миру, где слышны были лишь рык войны, вопли погромов и шум кровавой смуты. Гибельный страх объял тогда все дома и в один миг состарил даже юные души. В городе Бердичеве прибилась Лизанька к странной паре, которую составляли бывшая торговка рыбой по имени Песя и нищий-попрошайка Мешулам. С тех пор ходили они втроем из местечка в местечко по залитым кровью дорогам. На рынках и во дворах пели Мешулам-нищий и Лизанька-сирота печальные песни, от которых сжимается сердце любого еврея. Они пели, а бывшая торговка рыбой Песя кружилась под звуки немудрящей мелодии, плакала и посыпала голову пылью и пеплом.
Так добрались они до Пашутовки, где на девочку положила глаз Голда-бакалейщица. Она взяла Лизаньку в дом и поселила ее в отдельной маленькой комнатке с окном, выходящим на рынок. Там девочка и сидела почти безвылазно, днем и ночью читая все подряд толстые романы — хоть Дюма, хоть Майн Рида, хоть Достоевского. Вскоре в Пашутовку пришел месяц Ав, и деревья отметили его приход, украсив желтыми пятнами ветви и стволы. В тех домах, где еще придавали значение слову стариков, перестали есть мясное. Зато молодые бунтари, читатели новых газет, для которых обычай Девяти дней скорби по разрушенному Храму не значил ровным счетом ничего, решили дополнительно подчеркнуть этот факт и, растопив на сковородке свиной жир, макали в него еврейский хлеб, демонстративно жевали и причмокивали от удовольствия — к ужасу и отвращению своих матерей. А что еще могли матери, кроме как отвернуться и сделать вид, будто ничего не замечают?
Летний ветер свистит меж редких зубов Мешулама-попрошайки. Старик поглаживает себя по коленям, чешет в бороде и начинает петь.
Говорят, жена моя — женочка
От меня сбежала в эту ночку.
Не беда, найду себе другую
Эх, такую же сварливую и злую…
Рука его вытянута вперед в знак просьбы о милосердной помощи. Шестой час утра — самое горячее время на пашутовском рынке. У ног крестьянок разложены принесенные на продажу продукты: куры и яйца, крынки с топленым молоком, груды огурцов, яблок, арбузов. Между ними расхаживают еврейки-покупательницы; в руках у них — объемистые плетеные корзинки. Евреи-торговцы из Пашутовки собрались в отдельном ряду — они тоже стоят возле своих прилавков и широко зевают по причине раннего времени. Мешулам решает, что пришла пора немного возвысить голос.
Говорят, сыночек мой ретивый
Ходит всюду с девушкой красивой.
Хорошо бы это было, только
Говорят, она с рожденья гойка…
Лизанька в это время еще спит в своей постели. Окно широко распахнуто, и крикливый гам сельского рынка наполняет комнату. Скрипят несмазанные колеса; крестьянин тянет за собой под уздцы лошаденку, а та испуганно приседает и осаживает назад, кося карим глазом на привязанного к телеге беспечного жеребенка. По площади солидно расхаживает ответственный милиционер Назаренко. Под мышкой у него папка, глаза смотрят сурово. Повсюду суета, движение и слитный гул голосов, как в синагоге во время последней молитвы Судного дня.
Говорят, раввин наш, рабби Сеня
Согрешил публично перед всеми.
Говорят, сменял свою ермолку
На лихую очень комсомолку…
Ну и ночь была у Лизаньки, ну и сон… Огромный шар луны был сначала похож на голову пловца-великана, плывущего по течению Днепра-батюшки, но потом вдруг стал раздуваться, и чудеса посыпались из его волшебных ноздрей. Волнами качались кроны деревьев, дальний лай собак врывался в сон дремлющей округи. И тут вдруг запели дикие травы, и полетел по ним отважный всадник на прекрасном коне. Соскочил у самого окна, и вот он уже в комнате, гладит по горячей голове спящую Лизаньку.
— Ох, любимый мой! — только и успела сказать Лизанька.
Подхватил ее витязь на руки… Минута — и вот уже мчатся они вдвоем по спящей улице Пашутовки. И дальше, и дальше, по горам и долинам, над горами и над долинами — летит по небу волшебный конь, и покорная ночь целует его сияющие подковы.
Говорят, оставил служка синагогу —
Продает билеты в клубе у порога.
Говорят, что нынче Богу туго: