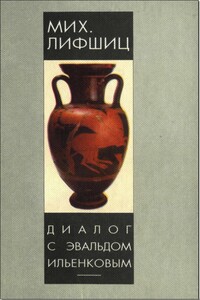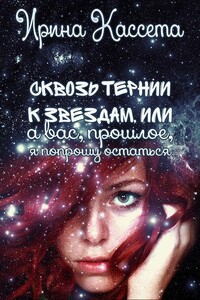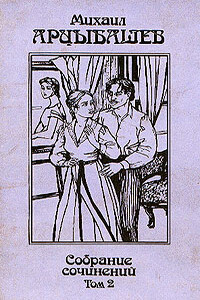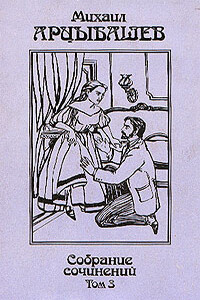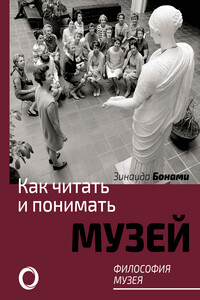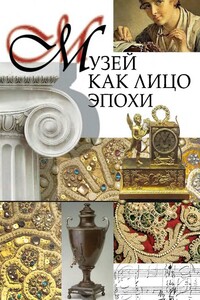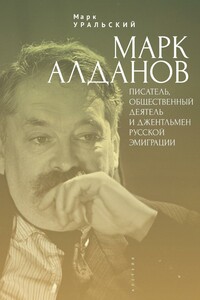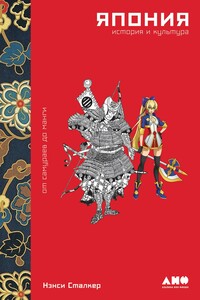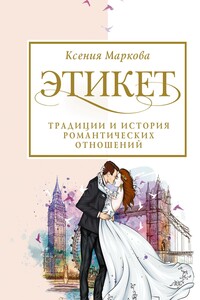Очерки по истории пустозвонства
Одна дама имела молодого поклонника. Желая выглядеть перед ним в лучшем свете, она стала рассказывать ему о своих встречах с Маяковским. Молодой человек слушал-слушал, потом пригорюнился как-то и спросил: — Вы, наверное, и Достоевского знали?
Тут моя дама поняла, что шансы ее невелики.
Рискуя оказаться в положении этой дамы, должен признать, что хорошо помню еще те времена, когда само слово «эстетика» звучало сомнительно. В те времена люди предпочитали слова шероховатые, грубые, воинственные Одному только А. В. Луначарскому дозволялось выражаться более возвышенно, но это было исключением. Железобетонные молодые люди, ходившие вокруг наркома, относились к его старомодным эстетическим слабостям снисходительно, не упуская случая упрекнуть старика в мягкотелости
Красоте ставили на вид ее порочную связь с резными буфетами в стиле ренессанс, «живыми картинами» времен трехсотлетия Романовых и другими цветами дурного вкуса. Репутация ее была совершенно испорчена. А так как прекрасное по традиции связано с деятельностью художника, то доставалось и самому искусству, которое иные радикалы называли презрительно «искусничанием». Если вы читали когда-нибудь сатирический роман Ильи Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито», то вспомните единоборство этого героя с гидрой мещанского быта. Вооруженный длинным мандатом, таинственный мексиканец хотел произвести ликвидацию искусства в масштабе города Кинешмы, но местное население осталось глухо к проникновенным словам Учителя всеобщей ликвидации. Освободившись от власти дворян и купцов, жители Кинешмы сами хотели пользоваться благами искусства и наслаждались, как говорится, чем бог послал
«В городе открылось восемнадцать театров, — рассказывает Эренбург, — причем играли все: члены исполкома, чекисты, заведующие статистическими отделами, учащиеся первой ступени единой школы, милиционеры, заключенные «контрреволюционеры», даже артисты. В «Театре имени Либкнехта» коммунистический союз молодежи ежедневно ставил пьесу «Теща в дом — все вверх дном», причем теща отнюдь не являлась мировой революцией, а просто честной тещей «доброго старого времени». Все это, конечно, лишь количественно отличалось от прежнего кинешмского театра, который содержал купец Кутехин».
Такие же страшные дела, продолжает свой рассказ летописец, творились в области живописи. Из дворянских усадеб в город были привезены местные шедевры, от натюрморта из дохлой рыбы и пустой бутылки (с надписью «голландская школа») до фиолетовой мазни какого-то ученика Врубеля, выражающей нечеловеческую страсть демона.
Подобные уступки старому миру возмущали последовательный ум Хулио Хуренито. Перед его вдохновенным взором сиял ослепительной чистотой будущий рай из стекла и металла (пластмассы в то время еще не было). Отвергая любой компромисс, он считал искусство пустым занятием, производством ненужных вещей и подлинным очагом анархии. Сам анархист, Хулио Хуренито был сторонником строгого деспотического порядка и потому добивался осуществления своего идеала методами Чингисхана. «Учитель, не колеблясь, приказал музей и все театры немедленно закрыть, помещения предоставить для профессионально-технических школ, художников мобилизовать для выработки солидной и удобной формы мужских ботинок или кресел советских канцелярий, а актеров, снабдив всяческими директивами, отправить в уезд уговаривать крестьян сажать побольше картофеля». Одновременно Хулио Хуренито запретил внеплановые зачатия и приступил к подготовке всемирной организации по истреблению растлевающего призрака личной свободы, так как общество, по его мнению, вступило в период «откровенной необходимости, где насилие не прикрывается сладенькой маской английского лорда».
Из этого видно, что Хулио Хуренито был мужчина решительный и в иные времена, при других обстоятельствах, мог бы занимать пост проконсула Римской империи, комиссара Конвента или исполнять любую другую должность, связанную с ликвидацией. Но в данном случае он не имел успеха. Кинешма поднялась против него и объявила великого ликвидатора невежественным самодуром, одним из «примазавшихся» к революции, а центральная комиссия по организации искусства в Москве, выслушав блестящую речь Хулио Хуренито, составленную в духе пуризма, конструктивизма и других течений иконоборчества тех лет, не согласилась с ним. Ответственные работники и жены старых коммунистов, заседавшие в комиссии, объявили, что они не вандалы и любят прекрасное. С их точки зрения, рассказывает автор, задача состояла в том, чтобы, маневрируя пайками, соединить агитацию с искусством.
Огорченный всей этой непоследовательностью, Хулио Хуренито так расстроился, что решил покончить с собой, избрав для этого оригинальный способ, о чем вы можете навести справки в романе И. Эренбурга. Мне же представляется иногда, что великий отрицатель слишком поторопился, ибо стихия левой фразы могла еще вынести его на поверхность. По крайней мере, много лет спустя, когда тело Учителя всеобщей ликвидации уже давно покоилось в окрестностях Конотопа, один незадачливый автор сочинил знаменитый афоризм: «Время красоты прошло. Кулачество ликвидируется как класс».