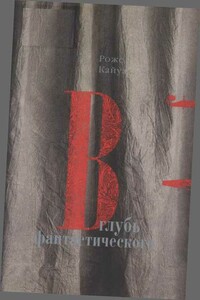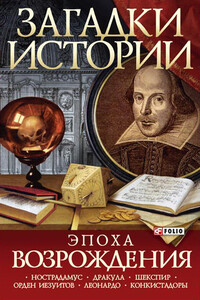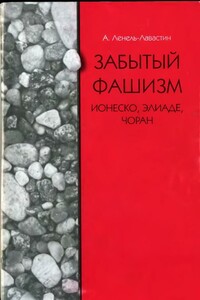Меня влечет тайна. Не то чтобы я всей душой отдавался чарам волшебных сказок или поэзии чудесного. По правде говоря, дело совсем в другом: мне не нравится чего-либо не понимать, а это далеко не то же самое, что любить непонятное. Все же в определенном отношении сходство есть: неразгаданное притягивает тебя, словно магнит. На этом сходство кончается. Ведь вместо того, чтобы заранее считать неразгаданное не подлежащим разгадыванию и застыть перед ним в блаженном изумлении, я полагаю, напротив, что оно ждет разгадки, и твердо намереваюсь, сколь хватит сил, тем или иным путем проникнуть в тайну.
Листая книги, посвященные фантастическому в изобразительном искусстве, я часто недоумевал, с какой готовностью (чтобы не сказать: леностью) авторы этих изданий удивляются собранным ими изображениям, которые большей частью вовсе не удивительны — стоит лишь потрудиться проследить их истоки или обратиться к цели художника: возможно, она именно в том и состоит, чтобы с легкостью вызвать изумление или симулировать тайну.
Моя растерянность еще усилилась вот отчего: в области безгранично широкой, включающей почти все, что сколько-нибудь противоречит всеобщему здравому смыслу или расходится с фотографическим изображением реальности, неизменно отсутствуют произведения, на мой взгляд, в наибольшей степени проникнутые чувством фантастического, которое трудно объяснить странностями локального характера, неизвестными обстоятельствами или продуманным решением.
Я принялся размышлять над разностью оценок, не перестававшей меня удивлять. Удивительного становилось все больше. Мне было непонятно, почему «Аллегорию чистилища» Беллини[1] почти всегда обходят стороной, а то, что Гизи и Раймонди явно подвергнуты опале, казалось мне почти невероятным. И в довершение моего смущения выяснилось, что из произведений Хиеронимуса Босха, не замечая таинственно-странного «Брака в Кане Галилейской», выбирают лишь бросающиеся в глаза изображения нечистой силы, несомненно изобретательные, но в конечном счете созданные механически, по однажды принятому и возведенному в систему принципу прививки и скрещивания.
Таково было начало моих размышлений. Решив ясности ради до конца следовать своим предпочтениям, я установил для себя первое правило: отметать все, что я называю предумышленной фантастикой, то есть произведения, которые созданы с намерением удивить, сбить с толку зрителя, для чего придуман фантастический, сказочный мир, где все выглядит и происходит не так, как в реальности. Эту нарочитую, искусственную фантастику я оставил в стороне, будучи убежден, что подлинная, жизнеспособная фантастика не может родиться из простого решения во что бы то ни стало создавать произведения, способные озадачить. Она не может возникнуть как результат игры или пари, или эстетической теории. Она должна появляться на свет, так сказать, преодолевая препятствия, конечно, при участии и благодаря посредничеству художника, но почти насильственно направляя его вдохновение и руку, а в каких-то крайних случаях даже вопреки его воле.
Двигаясь дальше по верному пути, я вскоре отверг предустановленную фантастику, то есть чудесное в сказках, легендах и мифах, религиозные и культовые благочестивые изображения, бредовые видения психически больных и даже свободное фантазирование. Тем самым пришлось сразу отказаться почти от всей скульптуры и живописи прикладного характера. Я с легкостью отбросил этнографические фетиши и маски, тибетских демонов, превращения Вишну, волшебные дебри индийского эпоса. Отверг я и искушения отшельников, средневековые пляски смерти, триумфы смерти, муки подземного царства теней и геенны, скелеты, преждевременно являющиеся в зеркале молодым женщинам, озабоченным мимолетностью собственной красоты, шабаши под председательством козла, ведьм верхом на метле — словом, все, чем обыкновенно пробавляется легковерие и даже вера.
Кроме того, я отмел все необычное, что связано с нравами и верованиями, принятыми на какой-либо далекой или близкой широте, в какую-либо — прошлую или нынешнюю — эпоху. В самом деле, стоит вернуть эти иллюстрации в свойственный им контекст, и они займут место в ряду общепринятых изображений. Строгость отбора, чуть ли не головокружительная, объясняется тем, что для меня фантастическое означает прежде всего тревогу и разрыв. В то же время передо мной забрезжила мечта (боюсь, сумасбродная) о фантастике вневременной и универсальной. И наконец, без сомнения, лучший довод: фантастическое, казалось мне, коренится не столько в сюжете, сколько в способе его трактовки.
Что касается мифов и религиозных таинств, то, по правде говоря, я, конечно, далек от мысли, будто они сами по себе представляют исчерпывающий источник появления фантастического, и именно потому, что чудесное обосновалось здесь в силу божественного права и в принципе здесь все является чудом. Однако, по-моему, было бы несправедливо и в сущности неверно отрицать, что в эту сферу может закрасться чуждое или мятежное начало и извратить ее природу, искупая грех ее сверхъестественности. В этом случае образуются трещина, разрыв, противоречие, сквозь которые, как правило, и просачивается яд фантастического. В эти миры проникает парадоксальным образом нечто необычное, недопустимое, несовместимое с их природой, слишком свободное, вне законов и правил.