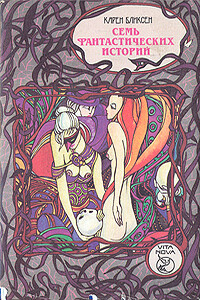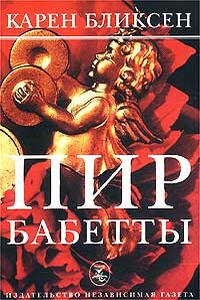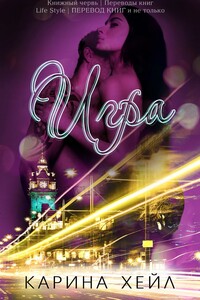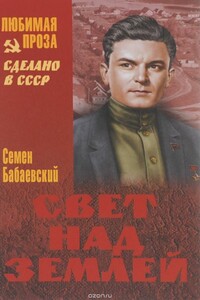По западной кромке леса между деревьев петляла тропинка. За лесом раскинулась земля, тихая, золотая, уже тронутая дыханием осени. Просторные поля опустели, зерно было засыпано в закрома, на поле остались только поскребушки в разбросанных там и сям невысоких стожках. Вдалеке, по проселочной дороге в облаке золотой пыли катил к амбару последний воз. Дальние леса к северу и к западу стояли в побуревшей зелени, после длинных солнечных дней лета, тронутые легкой патиной то ли несмелой позолоты, то ли ржавчины и с синеватыми тенями вдоль опушки. Порой нежная синева вспыхивала и над полем, когда взмывала кверху стая лесных горлинок. На каменной ограде сладко, как бы прощально, благоухали каприфолии, свисая с поникших стебельков, а вдоль подножья ограды сверкал черными ягодами и листьями, то пурпурно-красными, то багряными, ежевичник.
Но в глубине лес оставался по-прежнему зеленым — густая летняя сень, и там, где пополуденные лучи переливчато проходили сквозь листву, она вдруг начинала сверкать ярко и загадочно, как в мае. Тропинка петляла из стороны в сторону, то взбегала на пригорок, то спускалась вниз, порой она подступала так близко к опушке, словно хотела соединить лес с открытым полем, после чего снова ныряла вглубь, как бы опасаясь выдать некую тайну.
Молодой человек, простоволосый, в костюме для верховой езды, и молодая дама в белом брели по лесу. Когда она шла, ее платье, падавшее складками, будто у дриады, и схваченное лентой под самой грудью, легко скользило по земле, при каждом ее шаге увлекая за собой какой-нибудь прошлогодний желудь — подобно морской волне, что перекатывает камешки на берегу. Темные глаза дамы из-под густых ресниц ласковым и счастливым взором окидывали лесную чащу — так молодая хозяйка обходит свои владения, желая убедиться, что все у нее в полном порядке.
Они медленно и безмятежно брели по тропинке, словно лес был для них родным домом. Их походка, манера держаться, платье говорили о том, что перед нами молодой помещик и хозяйка усадьбы на этом красивом, приветливом острове.
Там, где тропинка, вильнув у ограды, перебегала в поле, дама остановилась и поглядела вдаль. Казалось, спутника дамы ничуть не занимала красота расстилавшегося перед ним пейзажа и лишь ее присутствие помогло ему увидеть эту красоту и осознать ее внутренний смысл. Пейзаж стал таким прекрасным в ее восприятии, под ее взглядом, прекрасней, чем на самом деле, поистине поэма без слов. Она не обернулась к нему, она редко опережала его поступки и того реже выказывала ему какую-нибудь ласку по своей воле, но ее рост и стать, водопад пышных темных волос, линия плеч, ее длинные пальцы и стройные ноги уже сами по себе были лаской. Ее натура, все ее существо было создано, чтобы очаровывать, а о большем она не мечтала. Его, покуда он скакал по лесу, занимала мысль о человеческом долге и призвании, теперь он подумал: «Призвание розы — благоухать, вот почему мы засаживаем розами наши сады. Но роза по доброй воле благоухает сильней и слаще, чем мы могли бы от нее потребовать, мало того — чем мы могли бы представить себе, а о большем роза и не мечтает».
— О чем это ты думаешь, а мне не говоришь? — спросила она.
Он не сразу ответил, а она не повторила свой вопрос, шагнула по гладкой земле к ограде, на миг прикрыла ладонью глаза от солнца и затем села на ограду, сложив руки на коленях. Теперь можно было издали разглядеть в лучах солнца ее платье, подобное золотисто-белому цветку на зеленом фоне. Он сел в тень, оттуда его взгляд мог дольше задержаться на ее лице. Здесь, на лесной опушке, воздух был чистый и легкий, свет яркий и вечный, жнивье дышало ровной благодатной сладостью. Бледно-голубой мотылек подлетел и уселся на разогретый камень.
Он не хотел спугнуть это счастливое мгновение в лесу, а потому некоторое время сидел молча.
— Я вспоминал, — наконец заговорил он, — древние роды, что жили здесь до нас, что расчистили, и вспахали, и засеяли эту землю. Суровой была их жизнь, они знали нужду и невзгоды, им много раз приходилось начинать свою работу сызнова, а еще раньше им приходилось воевать с волками и медведями, потом с вендскими пиратами и, наконец, с угнетателями и жестокосердными господами. Но доведись им нынче встать из гроба, в такой вот осенний день, и окинуть взглядом поля и долины, как окидываем мы, они бы, верно, подумали, что не зря сносили все тяготы.
— Правда, — сказала она и подняла, глаза к синему небу и белым облакам. Затем, чуть погодя, добавила: — Говорят, тут водилось много волков и медведей. — Голос у нее был звонкий, будто у птицы, чуть окрашенный островным диалектом, как своеобразной мелодией, и говорила она словно играючи.
— И тогда они могли бы, — сказал он, — забыть обо всех причиненных им несправедливостях.
— Правда, — снова сказала она, — все это было так давно, с тех времен, о которых ты говоришь, много воды утекло. — Она едва заметно улыбнулась. — А когда ты заговорил о несправедливости, ты, верно, подумал про одного крестьянина.
— Да, я подумал про одного крестьянина.
— Но почему, — спросила она, — почему ты сегодня выкапываешь своих старых крестьян из земли и тащишь их за собой в лес?