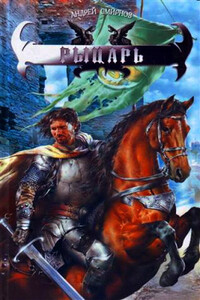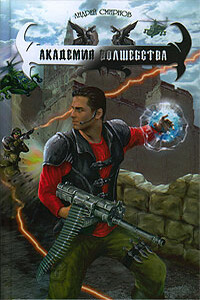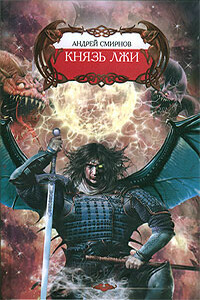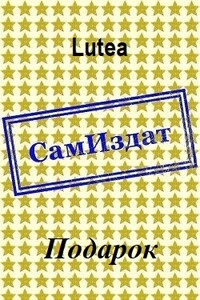…Уже отужинали, уже Элиза помогла ей раздеться, и, поправив одеяло, поцеловав в лоб и пожелав спокойной ночи, ушла, уже было слышно, как за окном тишина объяла поселок, как утихли последние полупьяные голоса, перемешанные с музыкой и смехом (сегодня в доме Кларина праздник, справили свадьбу его среднего сына), а Лия все ждала, когда же темнота, наконец, расступится и краски вернутся в ее мир. В мир, с детства заполненный только звуками, запахами и ощущениями…
…Станет светлым-светло, и Лии не будет там, где дрожит на ветру старый дом, где под босыми ногами скрипят половицы, где мать ласково проводит рукой по ее волосам, где гуляют сквозняки, а из кухни пахнет теплом, луком и просяной кашей… Где мяукает Рыжик, когда трется о ее ноги, где из полуоткрытого окна часто долетают обрывки чужих песен и лоскутки чужих бесед и слов, где бесконечными ночами не слышно ничего, кроме ветра, терзающего древесные кроны…
Хорошо, что это не случилось с ней за ужином или чуть позже, когда Элиза, обеспокоенная мнимым недомоганием своей приемной дочери, поднялась с ней наверх. Лия терпеливо выслушала все ее вопросы, и, отвечая на них, старалась, чтобы голос звучал естественно и непринужденно. Нельзя было дать понять матери, что Лия с нетерпением ждет, когда Элиза оставит ее одну, как невозможно было и объяснить, почему она сбежала от беседы, обычно следовавшей за ужином. Лия всегда любила это время, любила неторопливый размеренный голос Элизы, рассказывавшей, где она была и что видела за прошедший день, любила тепло и умиротворение, и пересказ редких сплетен, и сказок, и историй, которые она знала уже наизусть. Но сегодня нельзя было медлить, требовалось как можно скорее остаться одной, и она без всякого сожаления отказалась от общения с Элизой, по сути – от единственного ее развлечения в эти долгие, скучные летние дни, заполненные лишь ее собственным одиночеством… Хотя Элиза и не являлась ее родной матерью, Лия не знала другую: всю жизнь, сколько себя помнила, она провела в этом большом ветхом доме, под присмотром прекрасной, удивительной, доброй и терпеливой женщины. Поэтому Лия не хотела ее снова пугать – так, как напугала полтора года назад, в такой же тихий и умиротворенный вечер. Тогда за окном мели метели, и это пришло неожиданно и властно, и Лия даже не успела заметить, как перестала сидеть близ натопленной печи и слушать голоса вьюг и морозов, норовивших через щели пробраться внутрь изгрызенного временем дома, прогнать тепло и заставить умолкнуть двух женщин, беседовавших у огня… Миг – и ничего не стало; привычные звуки, привычные запахи, привычная беспроглядная темнота, привычный голос Элизы – все это уступило место водопаду цветов и красок, и мир заполнился странными предметами, которых она не слышала, не чувствовала, не касалась руками, но которые воспринимала так же отчетливо, как и себя саму (возможно, даже более отчетливо – ведь в этот миг она забыла о себе), и предметы в этом огромном, волнующем мире отличались друг от друга, и так было потому, что они были разными не только по форме, но и по цвету. Больше всего было того цвета, который Лия втайне про себя решила считать голубым – она знала со слов Элизы, что этот цвет имеет чистое от облаков дневное небо. Она смутно помнила, что сейчас – поздний зимний вечер, а значит – небо не может быть голубым, оно должно быть черным, и тот цвет, который она видит, скорее всего, не голубой, а называется как-то иначе, но рядом не было никого, кто мог бы ее одернуть и сказать: «Ты говоришь неправильно», поэтому она начала называть цвета и краски так, как хотела. Место, где она очутилась, показалось ей похожим на высокий полог, раскинутый над извилистыми коридорами, и она бежала над ними, по узким тропкам, которыми стали для нее вершины стен лабиринта, а иногда оказывалась внизу, внутри, в загадочном дворце с прозрачными серо-голубыми стенами и стеклянными колоннами, наполненными жидким серебряным огнем. Теперь это место было ей хорошо знакомо – всегда, или почти всегда, когда к ней приходило виденье, именно отсюда она начинала свое путешествие. Узкие коридоры с множеством острых углов, ложных тупиков и головокружительных поворотов рано или поздно заканчивались, и за черной бронзовой аркой простирались ветра, и волны, деревья и замки, и облака, и острова, и скалы, и лестницы, сотканные из солнечного света, и большие добрые звери, живущие в изумрудных лесах, и живые, светящиеся, как слезы, красивые драгоценные камни. Она шагала за порог изогнутого, перекрученного призрачного дома, и поднималась в небо, чтобы сверху, с вершин облаков полюбоваться подаренным ей миром, и выбрать то новое место, которое посетит на этот раз.
Но в тот зимний вечер ее путешествие закончилось, так и не начавшись. Элиза и понятия не имела о том, какие волшебные страны открываются сейчас перед ее дочерью: она приняла посетившее Лию виденье за обморок или припадок. Элиза перепугалась до смерти за свою дочурку, и, бросившись к ней, стала хлопать ее по щекам, поливать холодной водой, тормошить, плакать и звать по имени – и прошло не так уж много времени, как Лия снова «вернулась к реальной жизни». К привычным запахам, к привычным материнским заботам и привычной всепоглощающей темноте.