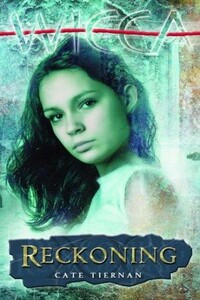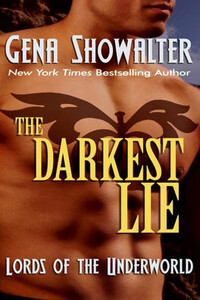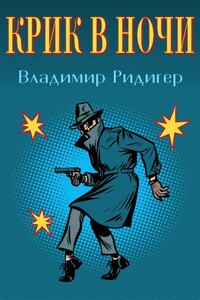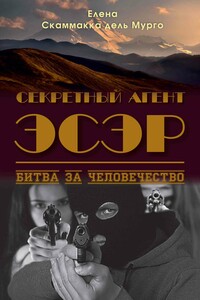Андрей слышит французскую речь Анри:
— Что ж, мой мальчик, — мертвая петля?
— Силь ву плэ.
— Итак: раз, два… три!
Андрей видит, как два истребителя входят в петлю. Но отчетливо видит в одном из "Яков" себя. И не только видит — он чувствует себя, воспринимает все ощущения и мысли второго Андрея; очень ясно осязает его ладонью шпагат на ручке управления. Одним словом, это, без сомнения, он и есть — второй он в одном из двух "Яков"! Конечно, странновато глядеть на себя со стороны. Но почему-то ничто не удивляет Андрея.
Однако, видя второго себя, Андрей не видит Анри, летящего на втором "Яке". Только отчетливо слышит в шлемофоне его веселое:
— Еще разок, старина?
— Са ва!
— Ну что ж: раз, два… три! Давай, давай!
Напряженные до визга голоса моторов и — вторая петля. Голос Анри:
— Карош! О, люблю тебя, старичок!.. Послушай-ка, Андре, что, если нам оторвать еще разок, а? Мы как бы одни двухмоторный самолет. Ты — левый мотор и остаешься в центре вращения. Хорошенький переворотик, а?.. Пойдет? Итак, давай, давай!
И Андрей уверенно бросает в ответ: "Са ва!"
Ему сдается, будто он все понимает.
А вместе с тем он знает, что ничего не понял: его познания во французском слишком ограниченны.
Странное состояние! Даже не видя Анри, Андрей проникает в его сознание, знает, чего тот хочет. Но как же быть: ведь Андрей не знает французского! Анри повторяет. Нет, Андрей не должен бы понять, а нельзя же здесь, в воздухе, сидя в разных самолетах, объясняться пальцами, как на земле. Связанные, консоль в консоль, потрепанной лентой, "Яки" идут со скоростью шестисот километров. Лезть на фигуру, не условившись достаточно точно, — нельзя.
Для убедительности Андрей еще раз повторяет:
— Нон! Не понимаю! Же не компран па!
В наушниках слышен смех Анри. Француз предлагает сделать вираж — машина над машиной. "Як" Анри лезет в небо и торчком почти упирается левой консолью в правую плоскость Андреева "Яка". Андрею сдается, что он чувствует вибрацию не только своей машины, а и самолета Анри. Словно лента — живой нерв, связывающий оба самолета в один.
Отвратительно жмет ларингофон — невозможно дышать. Туман, вязкий как кисель, обволакивает сознание. Движения все труднее. Тугими становятся ручка, педали. Не Андрей управляет "Яком", а самолет несет его. А ведь они
— Андрей и Анри — связаны. Оборвать ленту? Позор!..
Как давит ларингофон!
И куда он летит?
Андрей слышит свой хрип: ларингофон душит его. Скорее расстегнуть ремешок!..
***
Андрей проснулся и первым движением расстегнул воротничок: что за глупость — ложиться с застегнутым воротом!
Не хочется открывать глаза, и сон переходит в воспоминание. Одна тысяча девятьсот сорок четвертый. Эскадрилья "Лотарингия". Андрей здесь — единственный советский летчик, офицер для связи, — как было не выпить по случаю очередной победы? Но все же двести граммов. А дважды двести — четыреста. Ярче глаза, громче голос. И если глянуть на лозунг, четко нарисованный на стене клуба самим командиром эскадрильи майором Анри, то французские буквы начинают косить и даже шевелятся, будто собираются побежать. "Верю, что был хорошим моряком, — говаривал Бернар, — а что скажете вы, мои мальчики?"
Фу, черт, это же здорово! А где же капрал Арманс? Почему Андрей не видит ее синих глаз?.. Ах, Арманс!..
В голове у Андрея весело шумело, когда Анри и Арманс ввели гостей и представили старшего из них: майора Денниса Барнса, командира "челночного" "бомбардировщика". Невысокий сухой человек с некрасивыми, но чем-то сразу располагающими к себе чертами усталого лица, Барнс держался очень скромно и скоро отошел в сторонку, словно желая спрятаться за спины своих спутников.
Коренастый седеющий блондин представился сам:
— Эдуард Грили.
Англичанин, в мирное время авиатор-любитель, журналист, а на войне военный летчик; прилетел вторым пилотом на "боинге".
С ними коллега Леслав Галич — летчик-спортсмен, и на войне оставшийся только журналистом. У этого на рукаве сине-серого кителя нашивка: "Польша".
— Да, да, мальчики! — весело воскликнул Галич. — Чтобы познакомиться с вами, я погрузился в это допотопное корыто, летевшее на челночную операцию. У меня не так уж много времени. Едва хватит, чтобы выпить с вами и посмотреть, как вы тут кусаете фрицев.
Галич вел себя так, точно давно был здесь своим. Через полчаса он уже сам готовил коктейль.
— Не теряйте времени, господа, — шумно приглашал он остальных, наполняя стакан Анри, — завтра я уже не буду вашим барменом — тороплюсь: нужно поспеть в Варшаву, прежде чем эти скоты гитлеровцы задушат восстание. Я должен видеть… Непременно видеть… — и с неожиданной задумчивостью повторил, уставившись на свой стакан: — Видеть Варшаву…
С дружелюбной улыбкой Эдуард Грили сказал:
— Галич никак не может решить вопрос: следует ли еще называть родной город Варшау, как его называют оккупанты, или можно уже звать Варшавой.