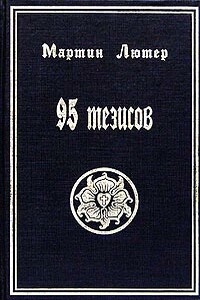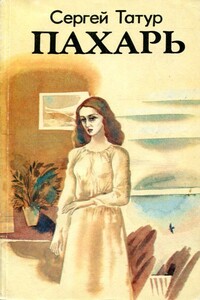По пути на разъезд Андрей Ходырев завернул к старику Устинову под окна. Крепко ударил в облупленный ставень.
— Дед? Эй! Не помер еше?
В окно высунулась широченная, сивая борода, — будто кто подал из избы добрый навильник с сеном.
— А-а… Андрюха, — Устинов широко зевнул, перекрестил рот. — Ходи в избу, что ли?
— Некогда, дед. В другой раз.
Ходырев перевесил с занемевшего плеча рюкзак, Звякнуло железо.
— Чего нагрузил в мешок-то?
— Замки, пять штук, — соврал Андрей, хотя старику Устинову можно было не врать.
Дед помолчал, обдумывая, и не согласился.
— Кабы хужей не было. Озлишь поганцев замками, они тебя вовсе спалят.
— Давно не был в Волковке? — Ходырев посмотрел на часы, не опоздать бы. Но дед жеста не заметил.
— Ваньку Кривого знал ли? Последний двор по Нагорной, пчеловод тоже.
— Кузнецов?
— Помер он, две недели как… Я у евонной старухи будку на тракторных санях купил. Насыпуха. Распродает вдова все Ванькино хозяйство задарма, считай, ну, взял. На хорошавинской дороге пасека. Там стоит.
— Та-ак! с тобой ясно, дед. Наложил в мотню, — Андрей Ходырев со злостью кинул кепку на глаза.
— Э, пустое мелешь, погоди-ка…
Устинов исчез в глубине и через минуту появился назад с плоской, жестяной банкой из-под карамели.
— В бога веришь? Аль нет? — Задал он неожиданный вопрос, пытаясь подковырнуть крышку толстым корявым ногтем. Наконец это ему удалось. — Так веришь? Или как?
«Старообрядец хренов, — ругнулся про себя Ходырев. — Без бога и на горшок не сядет, чтобы задницу не перекрестить». Однако вслух сказал:
— Так себе. От случая к случаю.
— И то дело.
Устинов добыл из коробки оловянный нательный крест на засаленном гайтане и поманил Андрея под окно.
— На-ко. Повесь на шею.
Ходырев знал, что старик с Богом шуток не терпит. Замялся:
— Зачем это?
— Бери. Бери. Завтра спасибо скажешь.
Андрей хмыкнул и повесил крест на шею, лишь бы отвязаться. Снова задал вопрос, ради которого завернул к старику:
— Давно там не был?
— Ден десять как…
— Ну?
— Дак я о чем толкую тебе битый час? Как оттудова приехал, сразу к ванькиной вдовице побег. Будку взял у ней.
— Ну, дед! Ты темнила… еще тот. — Андрей рубанул ладонью воздух и повернул прочь, жалея о потерянном напрасно времени.
— Во-во. побегай, послушай, как петухи по ночам орут. Посля приходи, поговорим!
— С кем это ты, Афанасей? — услышал дед за спиной женин голос.
— Андрюха прибегал, Ходыренок. На Волковку снарядился.
Старуха сзади заохала.
— Ты сказал ему, нет? Афанасей? Про Волковку-то?
— Дураку скажешь, — хмыкнул Устинов. — Зубы-то скалить с такими же. Пусть сам понюхат вначале.
Он грузно опустился на лавку.
— Ну. чего вытаращилась? Ставь самовар, така-сяка…
Андрей Ходырев, сухой, жесткий мужик лет тридцати пяти с глубоко запавшими глазами и постоянной щетиной на лице, которая вылезала сразу же после бритвы, сидел на скамье подле железнодорожной избушки с путевой связью. Ждал пассажирский. В самой избушке с закопченными стеклами сердитая баба неопределенного возраста в сером ватнике, в сером, грязном платке, время от времени что-то хрипло выкрикивала в телефонную трубку, эта сердитая баба сидела тут всегда, сколько Андрей себя помнил.
Со стороны города показался пассажирский — два зеленых, обшарпанных вагончика с побитыми стеклами и дверями. В кабине дизеля Ходырев издалека разглядел знакомого машиниста и на ходу забросил в кабину рюкзак, вскочил на подножку. На разъезд медленно втягивался встречный состав с лесом.
— Далеко рубят?
— На тридцать третьем. Недорубы подбирают.
— Остатки?
— Ну.
Лес шел плохонький, тонкомер, большей частью осина и березняк. Из-за многократного переруба лесоучастки, разбросанные вдоль узкоколейки, некогда многолюдные, начали хиреть, а некоторые были давно брошены и зарастали бурьяном. Печать запустения коснулась железной дороги тоже — плясали костыли в подгнивающих шпалах, шпалы меняли редко, наспех и без всякой пропитки. Давно заросли кустами противопожарные просеки, а на полосе отчуждения поднялся лиственный подрост, и зеленые ветви то и дело хлестали по кабине бегущего локомотивчика, скребли по вагонным стеклам.
В Волковке, кроме Ходырева, никто не сошел, поселок был мертв. Затих вдали перестук колес, и Андрей остался на шпалах в одиночестве.
Майская яркая зелень еще резче подчеркивала провалившиеся, черные крыши бараков, оседающих в землю. В оконных глазницах кое-где сохранились стекла, и вечернее, низкое солнце плавилось в них отраженным заревом. Кладбищенская, гнетущая тишина вокруг обессмысливала любое созидательное усилие и самое жизнь со всеми ее тщетами.
В окружающем пейзаже явно чего-то недоставало. Андрей пригляделся — еловый синий массивчик на горизонте за зиму бесследно исчез, и в привычной глазу картине появилась еще одна зияющая пустота.
Андрей закинул рюкзак на плечо и медленно двинулся в гору по обдерневшей дороге, на душе было скверно. Решив сократить путь, он свернул с дороги и пошел напрямую по кустам и бурьянам, бывшим когда-то огородами.
Его изба, купленная в прошлом году за три сотни, стояла на отшибе возле леса. Вернее, это была даже не изба, а целое крестьянское подворье, рубленное встарь из красного леса с большим толком. Леспромхозовские бараки, поставленные сразу после войны для спецпоселенцев, быстро пришли в негодность и теперь догнивали, по словам старика Устинова, чье подворье стояло на другом конце поселка, здесь был раньше крестьянский починок на две семьи с небольшими пахотными клиньями.