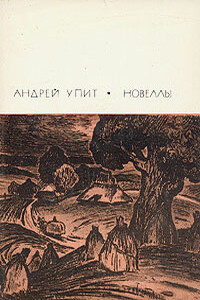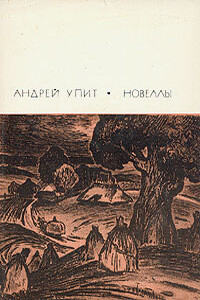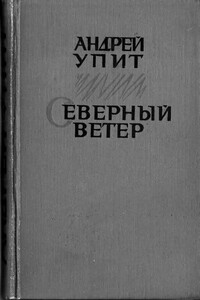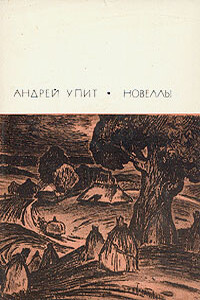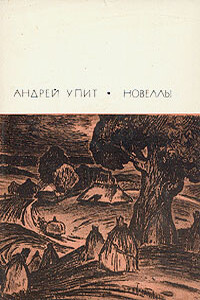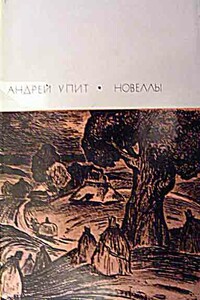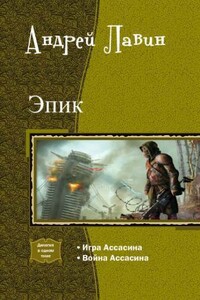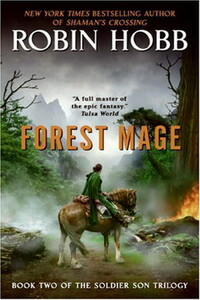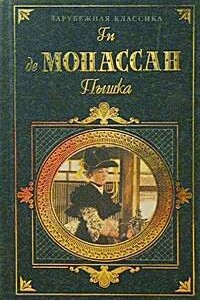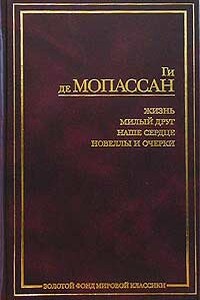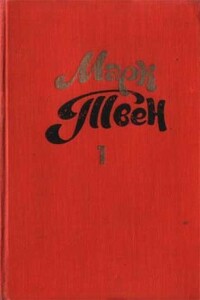Обе оконные створки распахнуты настежь. За окном куст сирени, весь в синем цвету. Только с одной стороны видна зеленая, когда-то красивая, а теперь облезшая изгородь, а за нею проезжая дорога. Далее зелено-серое ячменное поле имения и лесная излучина.
Солнце пока низко. Дорога до половины еще в тени от дома. Но тень эта все ближе отползает к дому. Все ярче становится пятно поля, и чернота лесной опушки постепенно бледнеет. Уже можно отличить листву высоких деревьев от низкорослой молоди.
Усыпанная щебнем дорожка поскрипывает под ногами прохожих. Над дверью аптеки, в доме, в том конце дорожки, изредка звякает колокольчик. Где-то едут на лошади. Дребезжание повозки все ближе. Это не солдаты. Слышно, что тарахтит всего одна повозка. Телега — если вслушаться. Какой-нибудь мужик едет. Мало их теперь здесь ездит, в самый сев. На станции, верстах в двух отсюда, пыхтит и время от времени коротко и пронзительно свистит паровоз.
Вечерний ветер с запахом фиолетовой сирени легкими порывами вливается в комнату. Фиолетовые сумерки заполняют все помещение. То ли это от наружного освещения. То ли от охапок цветов, которые здесь повсюду наставлены. На книгах и бумагах, на большом, заваленном разными хозяйственными принадлежностями столе, на маленьком круглом столике, стоящем возле постели, на комоде, даже на подоконнике другого окна. Запах сирени не пьянит и не забивает все, он легкий и летучий, совсем как и ее цвет.
Екаб Берг сидит в своем передвижном кресле у открытого окна. Ноги его, по обыкновению, укутаны теплым полосатым пледом. Дни теперь теплые, после обеда так даже жарко — а они зябнут. Все время зябнут, как плотно и тепло их не укутывай.
Екаб Берг не думает об этом. Привык. За двадцать три года ко всему привыкнешь. В руках у него книга, но он не читает. Так и лежит она на коленях. Он оглядывает комнату. На улицу он уже смотрел. Теперь осматривает комнату.
Комната жены для него почти чужая. Больше двух-трех раз в году он в нее не попадает. На стене увеличенная поясная фотография — они спустя неделю после свадьбы. Тогда у него еще были обе ноги… Он всегда избегает на нее смотреть. Но сегодня не смог удержаться. Сегодня надо и на нее посмотреть. Он смотрит на свое бодрое юношеское лицо и сравнивает его с отражением пятидесятилетнего мужчины, которое виднеется в открытой створке окна. Качает головой. Просто не верится. Черты вроде бы те же самые, только морщины на лбу и в уголках рта сделали лицо суше и строже. Изъеденный кусок известняка — вот что напоминает ему источенное годами страданий лицо. Буйные кудри поредели и присмирели. И на висках седина ох как заметна. Это у него-то, у которого отец умер в девяносто лет без единой сединки…
И отвернуться не может. Надо еще поглядеть.
Она, кого он двадцать лет держал привязанной к своей искалеченной жизни… Свежая, как несорванный розовый бутон. Стоит вон, заслонив одно его плечо, серьезная… Но лицо и глаза жизнерадостные, внутренняя счастливая улыбка, которую можно скорее подсознательно уловить, чем почувствовать, как запах от росистого цветка. И перед этим их портретом стоит большая узловатая сиреневая ветка в ее любимой вазе… Он вспоминает — каждый раз, когда его сюда прикатывают, перед портретом стоит ветка цветов… Наверняка припасенная специально для такого случая.
Екаб Берг не может долго смотреть на этот портрет. Чувствует, что это может нарушить его дорогой ценой купленное, величайшим трудом завоеванное душевное равновесие… С усилием он отводит взгляд и дальше оглядывает комнату. Комнату его жены, чужую и непонятную ему. Он живет, работает и спит в переделанном под лабораторию павильоне в углу сада. Здесь он чужой. Здесь у него такое же чувство, какое бывало раньше в приемной какого-нибудь профессора или другого светила.
Невольно он усмехается своим мыслям. Тонкие, стиснутые губы чуть изгибаются в усмешке. А в глазах тот же серый, холодный, болезненный блеск.
Заваленный стол с зеленой лампой. Его подарок — с тех времен. Бронзовый резервуар с рельефными рисунками чистенький, как вымытый. Видимо, эти привычки не проходят и с годами. Мещанские привычки, они самые цепкие. Хотя нет, — обрывает он нить размышлений. Даже и мысленно он не хочет ее обидеть. Ведь и он больше всего любит чистоту. Оглядывает свои руки. Прозрачные, словно восковые. Кое-где обожжены кислотой или едкими химикалиями. Кончики пальцев шершавые. Вдруг приходит неожиданная мысль. Он наклоняется вперед, насколько это удается, и разглядывает свое лицо. И оно с восковой желтизной, какое-то помертвевшее. Нет — в мутном зеркале окна не видны черные точки на лбу, которые так и не удалось вытравить. И белые, хорошо разгладившиеся шрамы вокруг глаз. Это после того несчастного случая, когда его сооружение из колб, трубок и банок разлетелось в мелкие дребезги. Все стены лаборатории были в стеклянной пыли. Зажжешь свет, потолок так и сверкает, точно сплошь утыканный иголками.
Но это уже было давно. А что прошло, на том и останавливаться нечего. Это болезнь, с которой только сам можешь справиться. О, он приучился бороться и закалился в борении со своими внутренними хворями. Точно стеклянную пробирку, воля его держит рассудок в крепких руках. И сливает оттуда навязчивое мысленное содержимое, как ненужную жидкость…