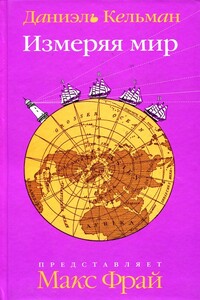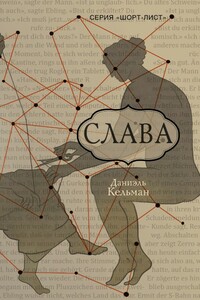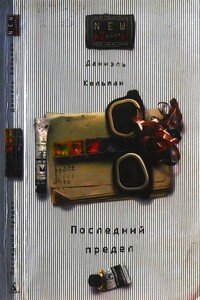Первым делом эта собака. Она торчала там. Вечно торчала там. Огромная овчарка – светлая шерсть, свисавшая чуть ли не прядями, уши торчком и продолговатые красные глаза, в которых не отражалось ничего, кроме слепой злобы. И конечно же зубы; да какие зубы!
Она уже три года назад там околачивалась. И пять лет назад. И даже десять. Всегда стояла за забором, впившись в тебя глазами, потом медленно обнажала зубы, а из пасти раздавалось тихое низкое рычание.
И это все омрачало – каждый день, каждую ночь (ведь по ночам начинался лай; она облаивала машины, месяц или видения из своих снов). Ее держали соседи: вечно потный толстяк, неразговорчивый, гордившийся тем, что пес мог загрызть насмерть. Соседа побаивались, но, вероятно, просто потому, что его образ прочно связался с образом его питомца: овчарка была злом, подстерегавшим в засаде, страшной опасностью, грозившей оборвать каждое мгновение. Все надеялись, что в один прекрасный день собака исчезнет или умрет; но она жила. Она казалась бессмертной.
Настоящий ад наступал в летние каникулы. Когда от травы поднимался желтый жар, небо, словно из раскаленного железа, висело низко и тяжело, время стояло на месте, и все замирало, во всем мире. И оставалось только сидеть на полу и листать комиксы (ну и идиот же этот Микки) и слушать телик – смотреть не стоило. А еще: однообразный, как текучая вода, шум автомобилей под мостом. Ко всему этому прибавить лай и изредка гул самолетов. Так было в десять лет, в одиннадцать, в двенадцать. Казалось, ничего не изменится. И в тринадцать. И в четырнадцать.
Он зевнул. Зевнул еще раз и посмотрел на часы: почти все то же, что и пятнадцать минут назад. Солнце нещадно палило, отражаясь на подоконнике, паучок бежал вверх по стене. Он снова зевнул.
Сестра перевернула страницу журнала. Гудел телевизор. Вот и на нее напала зевота. Она на два года старше: короткая юбчонка, блузка без рукавов; белые груди не слишком большие, зато четко обозначенные. Он медленно поднял на сестру глаза. Но та не обратила никакого внимания.
Паук добрался до потолка, остановился, словно пятно на обоях. По телику с музыкой шла реклама моющих средств: домохозяйка улыбалась, размахивая полотенцем…
– Когда, – спросил он, – будем есть?
– Что? – не глядя, спросила сестра. И перевернула страницу.
Ответа не последовало. Рядом залаяла собака. Тень о четырех лапах мелькнула на подоконнике, озаренная встречным светом, – кошка. Вероятно, соседская. Провела хвостом по стеклу, движения легкие, удивительно нежные. Спрыгнула с подоконника, растворилась в ярком свете.
По телевизору показывали человека: тощего, бледного, в водолазке. Рядом на кухне что-то звякнуло и разбилось.
«Вопросы, – сказал человек, – которые встают перед, нами, которые ставятся нами. Ибо все мы… – голос слишком высокий и какой-то неуверенный. Словно микрофон был не в порядке. – Блаженный Августин говорит о небытии, об отсутствии, в определенном смысле – о бреши. Мы называем это «злом», но такое определение сбивает с толку. Речь идет всего лишь об отсутствии добра, зло само по себе, не… – как бы получше выразиться? – зло нереально».
– Выруби! – сказала сестра. И перевернула страницу. Паук скрылся. Из кухни послышался скребущий шум: подметались осколки.
«Ибо сущность зла – именно в небытии и в отсутствии. Поэтому оно бессильно, поэтому нереально, не…»
– Выруби!
Он не хотел. Не потому, что было интересно, а просто так – он никогда не делал того, о чем она просила. Бабочка стукнулась о стекло, крылья с темно-красным отливом, в лучах солнца кружились серебристые пылинки. Он зевнул, на глазах выступили слезы, и комната расплылась в светлом тумане. Нащупал пульт: не затевать же ссору из-за этой ерунды! Нажал кнопку выключателя: водолазка стушевалась в электрической вспышке. Экран почернел, и в нем словно в зеркале отразились окно, диван, а внизу – он, сидящий на корточках: малорослый (все говорили – коротышка), нерасчесанные волосы, мятая рубашка.
Он поднялся. Ноги болели, левая зудела, почти затекла. Направился к двери – когда поравнялся с сестрой, та даже не удостоила его взглядом, – и вышел на улицу. В сад.
Зажмурился, яркий свет резал глаза, вспышкой отдаваясь в голове. А теплый воздух как стоячая вода, шаг – и она вяло потекла вокруг ног, рук, шеи. Он стоял и ждал, надо было привыкнуть.
Впереди раскинулась лужайка, пять на десять, за ней – зеленый забор из проволоки. За забором (лучше не смотреть) что-то шевелилось – собака. Перед забором – цветочки, и они качались туда-сюда, хотя ветра не было. А он бы не помешал. На лужайке, в самой середине, разлеглась кошка.
Собственно, она даже не лежала, а ползла. Тело на земле, голова опущена, лапы поджаты. Причудливые плавающие движения, беззвучные, усы и волосики на ушах светились, когти на лапах – но, возможно, это только казалось – далеко выпущены. Красная бабочка приземлилась на траву, на секунду замешкалась, а потом полетела дальше, вспыхивая маленьким огоньком. А вон и другая котяра. Крупнее первой, с длинной пушистой шерстью. Уставились друг на друга, изогнувшись и выпучив глаза. Их разделяло метра два, а может, и меньше. Да еще жара, да яркий свет, да неподвижный воздух; одна тихо зашипела, другая подалась назад, немного, на несколько сантиметров…