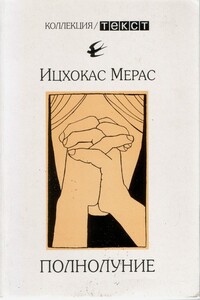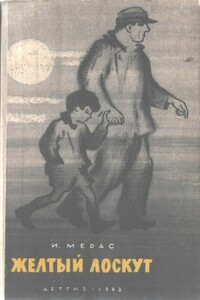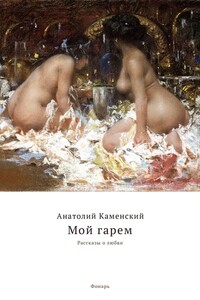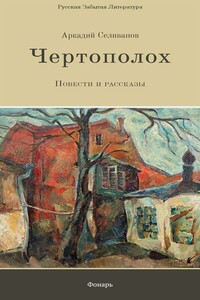ИЦХОКАС МЕРАС
ТЫСЯЧА, ТЫСЯЧА, ТЫСЯЧА МИЛЬ…
Алло. Алло! О, боже мой… Ты?
Конечно…
Конечно, тут же узнала, еще бы я тебя не узнала… но ведь страшно дорого — из такой дальней дали.
Тысячи миль, ты только скажи два слова и положи трубку, ладно?
Соскучилась, ох как соскучилась, но мне и пары слов хватит, правда…
Как я?
Что я?
Лучше не спрашивай, или вот спроси — в чем я, где я.
Да не знаю, скажу или не скажу.
Хорошо, что не видишь меня. Боже милостивый, как хорошо, что не видишь.
Испугался бы, если б увидел. Ой, испугался бы…
Брожу с места на место, из спальни — в комнату, оттуда в гостиную и снова назад, из угла в угол, и опять по новой.
Все дом проветриваю, проветриваю, будто мне воздуха не хватает, а может, и правда, свежего воздуха вдохнуть не хватает, наполниться им, как живой водой, как силой телесной.
Открою балконную дверь настежь, сама съежусь, нырну на кухню — и обратно, и снова вернусь, а как эта рождественская зимняя стужа всю меня прохватит, до нутра достанет — спина выпрямляется, и так хорошо, хоть и холодно становится, иду тогда в постель, накроюсь всеми одеялами-покрывалами, только нос один торчит наружу, и радуюсь, что свежего воздуха глотнула, бывает, и есть захочется, а то ничего в рот не лезет, и голода не чувствую, как будто могла бы жить, куска не откусив, глотка не проглотив.
Вот я где.
А ты думал, где?
А в чем я — не скажу, потому что как бы еще в этой жизни, а может, только во снах, сама не знаю — так как я тебе скажу?
Боже мой, боже, как же я по тебе соскучилась, даже и сама не знала, что так сильно соскучилась.
Хотя кто ты мне — чужой человек, или как?
Нет, нет, это я просто так сказала, подразнить, что ли… не сердись.
Ведь не чужой, нет, что ты, ради всего святого, глупость сказала!
С ума сошла, что ли.
Ну, хватит, хватит, скажи еще словечко и положи трубку, ведь так дорого стоит, Господи… Что ты себе думаешь, только еще словечко-другое — и довольно, что еще надо!
Ведь до тебя не достать, как ни тянись — до тебя не достать…
Руки протяну вперед, сколько могу, сколько сил хватит, уж они, кажется, из плеч вырываются, а все равно до тебя не достать, никак не достать, а так хотелось бы пальцами, самыми кончиками до тебя дотянуться, коснуться щеки, а может, и губ.
А если не…
А если не твое лицо, не тебя, может, мне зверушку какую погладить — котенка или щеночка, или обезьянку какую или мышку — не знаю.
Да и где они?
Глупости какие-то, правда?
Ну, вот в этом я, а ты спрашиваешь, словно не знаешь, не представляешь, как будто издалека, неважно, что за тысячи миль и можно не знать. Ведь понятно, что представляешь.
Потому что не хочу я ничего, ничего — ни людей, ни видеть их, ни говорить с ними о всякой ерунде, ни есть не хочу, силой себя заставляю, потому что надо лекарства пить, а без еды нельзя, видишь, в чем я.
А часто бываю не здесь, не здесь, совсем в другом времени, словно всей моей жизни и не было вовсе, а я — девушка, наивная девчонка, влюбленная, что ли — глупости какие-то… правда, глупости, потому что не было, нет и — не будет.
А может, что-то и было.
Да ведь нет.
Ни ты меня не любил, ни я тебя. Мы были детьми, просто детьми. Детские игры, что ли.
Хотя все же я помню, как смотрела через окно на ту сторону улицы, высматривала, как ты идешь со своим портфельчиком в школу, высматривала, разглядывала, глаз оторвать не могла, а чего — сама не знаю, ведь никогда ничего не было, только смотрела, а потом и сама шла в школу, позади тебя, не догоняя, глядя издалека, но все равно не выпуская из виду.
Ведь не ходили вместе, не гуляли, свиданий не назначали, не встречались, а так только, по случайности.
Помнишь, какие сильные и тяжелые были у меня руки. И как я гордилась, что они такие. Боженька ты мой!
Ведь это летом было.
Или весной?
Нет, летом, потому что тепло было, и мы шли к Дануте через сосняк, шли, дурака валяли, тихонько толкаясь, пока не свалились оба на мшистой полянке, и стали качаться там, как на покрывале, и я повалилась навзничь, а ты хотел прижаться ко мне, и губы твои становились все ближе, а я уперлась тебе в грудь руками, вцепилась ногтями, не подпуская и не отпуская, говоря, что не теперь, и ты остановился на полдороге, растерялся, и так и не прикоснулся, так и остался, помнишь?
Боже ты мой, дети были, малые дети, ничего не знавшие, ничего не видевшие, не представлявшие, видели только друг друга, радовались друг другу, остановившись на полпути к Дануте.
И я радовалась, что руки у меня такие сильные, крепкие, что могут отодвинуть, придержать тебя на расстоянии, хоть и не отпустить, что они такие сильные, хоть и изящные, как ты говорил, с длинными пальцами, которые в тебя вцепились.
Хорошо, что ты далеко, что не видишь теперь этих рук, потому что теперь они — как щепки, и я тебе скажу, потому что ты от меня за тысячи миль, и никогда, наверное, больше меня не увидишь, а я тебя, и хоть жаль, но отрадно, что я помню свои руки другими, правда же?
Может, и ты теперь вспомнишь? Ведь помнишь?
Слишком долго ты так далеко, слишком долго. Обещал приехать, а столько лет прошло, и где ты?
Знаю, болеешь. Я тоже. И как же теперь? Оба болеем, оба бедолаги, и уже повидаться не можем?