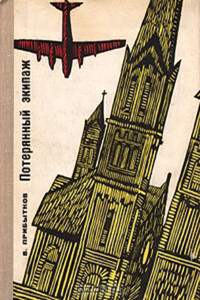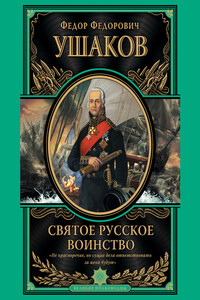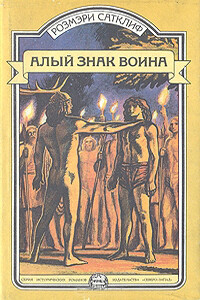Поздней весной тысяча четыреста шестьдесят шестого года тверской богатый купец Василий Кашин, выйдя из церкви Николы-угодника, покровителя торгового люда, узрел призрак. Призрак был, несмотря на сырую теплую погоду, в валяных сапогах, дубленой овчинной шубе и шапке собачьего меха. В левой руке держал рукавицы-голяки, правой тер горло под спутанной русой бородой.
— А, Василий! Здорово! — увидев остановившегося Кашина, сказал призрак. — Что, не признал? Ну гляди, гляди. Авось, бог даст, признаешь.
— Постой, постой… — крестясь, пробормотал Кашин. — Тебя, сказывают, убили…
— А ты и поверил! — насмешливо щурясь, ответил русобородый. — Ну, Тверь-матушка! Так и норовят живьем в землю закопать. Свечу-то не ставил за упокой?
— Не… — растерянно отозвался Кашин.
— И то выгадал. Ну, да ты мужик хитрый. Даром деньгу не бросишь. Ждал, поди? Знал, что Никитиных со свету не сжить?
— Н-да… — зажав бороду в кулак, уже придя в себя от неожиданной встречи, процедил Кашин. — Сжить тебя не сжили, а, видать, поучили порядком. Как кочет на людей прыгаешь. Иль новогородцы-то не пряниками потчуют?
— Да и я им не тещины ватрушки сулил. Слыхал, значит, про меня?
— Слыхал, слыхал, как не слыхать!.. Вернулся, стало быть? Надолго ли?
— А это как бог даст. Долго-то с вами не ужиться, сам знаешь. Пакости не люблю.
— Тьфу! — плюнул Кашин. — Накажет тебя господь, Афанасий, когда-нибудь. До сей поры старших уважать не выучился, а на язык хуже прежнего стал.
— Спасибо добрым людям — наставили… Там, в церкви, Копылова не видел?
— А ты б зашел в храм-то, перекрестил бы лоб да сам и глянул.
И Василий Кашин пошел прочь, сердито махнув рукой и разбрызгивая талый, перемешанный с грязью снег.
Слышали этот разговор дотошная посадская баба-богомолка, николинский пономарь, собравшийся после службы к знакомой просвирне, да какой-то мелкий лабазник, от нечего делать считавший ворон на коньке дальних княжеских хором.
Слышали, и дня не прошло, как поползли по извилистым тверским улочкам, от завалинки к завалинке, слухи, что пришел из чужих краев гость Афонька Никитин, ходит нищий, чуть не с сумой, с купеческой старшиной ругается, церковного старосту богатея Кашина облаял. А все от большого ума, от книг…
Но не прошло двух месяцев — ахнули. Стало известно, что тот же Василий Кашин товары Никитину в долг дает, куда-то его с товарищами ладит. Поговаривали, будто даже Олену — свою дочь, первую на посаде невесту, обещал Кашин за Никитина выдать.
Спервоначала сомневались: к Олене вроде богачи Барыковы сватались. Но как увидели, что Афанасий на берегу с мастеровыми новую ладью строит, а Кашин тут же суетится, сразу уверовали: свадьбе быть. Пономаря и богомолку-бабу огласили пустобрехами, устыдили: слышали-де звон, да откуда он? Неладно людей срамить походя. Не по-христиански сие, не по-божески.
Но толком все же никто ничего не знал. Впрочем, к тому времени другой интерес появился: давно кто-то порчу на скот в слободах насылал, а кто угадать не могли. Но тут парни ночью возле брода на Тверце вороную лошадь поймали. Чья? Откуда? Поглядели — не кована. Ага! Парни ее и подкуй, да и отпусти. Глядь, на другое утро в рыбной слободе старая Козячиха, одинокая вдова, занемогла. Вот оно! Стучать — не открывает. Шалишь! Подсмотрели, а Козячиха клещами уже со второй ноги подкову стягивает. Морщится, ведьма! Утопили Козячиху. Очень страшно было. Просто жутко.
До Никитина ли тут людям? Поважнее вещи на белом свете есть…
Меж тем лето разошлось вовсю. Еще в июне пересохли луговые ручьи, сухо заскрипели на мочажинах и болотцах желтые травы. Ушла на дальние лесные озера утка, забились в непролазную чащобу глухарь и тетерев, ревела скотина, которую не спасали от овода обмелевшие речонки. Мужики обходили поля с иконами, попы кропили чахнущие посевы святой водой, но бог не внимал молитвам. Весь июль палило по-прежнему. Земля растрескалась. По ночам, словно дразня, где-то далеко вскидывались зарницы, напоминая о молниях, громе, дожде, но дождей не было. В Новгороде и Пскове начался мор. После двух неурожайных лет северной Руси опять грозил голод.
Как грибы-поганки, повылезали из темных щелей убогие нищие, кликуши, юродивые, зашептали и заголосили о божьей каре, снова вспомнили о конце мира и страшном суде.
На Москве изловили страхолюдного юродивого Парамона, поносившего великого князя Ивана Третьего за неверие. Стали копаться и разыскали, что Парамон якшался с новгородскими купцами. Юродивого посадили на цепь, купцов схватить не удалось.
Великий князь скрипел зубами, повелел с амвонов вещать, будто разговоры о конце мира — богохульство. Хоть пасхалии[1] и кончаются семитысячным годом, но в священном-де писании Христос сказал, что никому знать о втором пришествии не дано.
Повеление великого князя исполнили, но многие священники в глубине души томились и питали сомнения.
В Новгороде же о конце мира толковали открыто. Даже прошлогодняя победа Ивана над казанскими татарами, одержанная им, несмотря на худые знамения, никого здесь не утешала. Наоборот, видели в этом, боясь Москвы, начало всяческих бед. Но слухи, толки, пересуды — толками и пересудами, а жизнь жизнью.