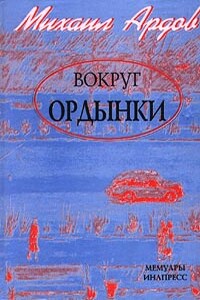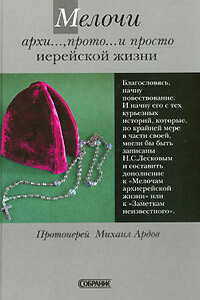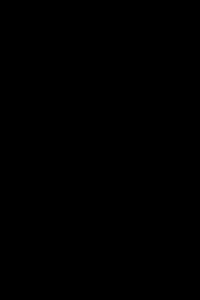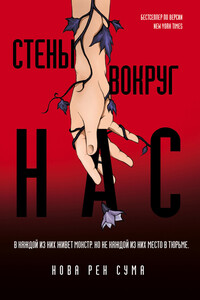Родилась я в девятьсот втором году, в первый день Пасхи, а на второй меня крестили. И была я третья у Тяти — Мария, Анна, потом я. А всего нас было не сосчитать.
Галина, Андрей, Прасковья, Лидия… это все живые. И померло — Вася, Алеша, Иван, Христофор, Дуня, Евгения… Тятя у нас рос сиротой, но земли было много — двадцать пять десятин дарственной да шесть купленной. Работы было много. Всем хватало. Я девяти годов поехала уже боронить на молодой лошади и десяти годов пошла пасти. Некогда было прохлаждаться. От Тяти нашего ни разу матерного слова не слыхивала, все у нас было с молитвой — и косить, и молотить, хоть чего угодно — все с молитвой. Спать не ляжет без молитвы и нам не даст. На Крестопоклонной в среду пекут у нас кресты, крест один поставят на божницу, к иконам, и он уж первым стоит до Благовещения. А в Благовещение в каждый дом из церкви приносят благословенный хлеб, и хлебец этот тоже на божнице лежит. Придет время сеять, Тятя от креста отломит и от хлебца — растолчет да к семенам прибавит. Все с молитвой. Оттого и хлеб такой вкусный был… А теперь все с матюгами. И сеют, и жнут, и мелют, и пекут — все с матом. Уж какой он тут будет… Тут и без болезни будет болезнь. Деревня наша Кожино, а приход — село Янгосарь, всего верста одна.
Там и школа была при церкви, раньше все они у церквей были. Церковь у нас была — Никола, два священника да диакон. У нас без диакона службы не было, потому что приход очень большой. Настоятель нам родня был — я его только и помню митрофорного, не митрофорного не помню… Сто три года он прожил, а служил до ста годов. Шестьдесят с лишним лет прослужил на одном приходе. Бывало, старика хоронит и говорит над гробом: «Я тебя крестил, я тебя и погребаю…» А в церковь я стала ходить с семи лет. Как в школу пошла, так и в церковь пошла.
А петь стала с десяти годов, учил нас диакон, отец Николай. Я ходила во втором классе, а уже часы читала, шестопсалмие читала. А псаломщик, пономарь у нас был старик Димитрий Васильевич… Совсем уж старый был. Бывало, читает «Господи помилуй», а у него все выходит — «помело стоит» да «помело стоит». А потом уж пономарь стал его внук. Мне почему-то ученье давалось, и Закон Божий мне давался… Первый раз я ходила в монастырь так, без обещания. Двенадцати годов. У нас многие ходили — пятьдесят верст. Монастырь Севастианов, преподобного Севастиана Пошехонского. Он еще Сохоть назывался, река там Сохоть.
А мощи были под собором, под спудом. Собор большой был, каменный, как в Петербурге, с петербургского собора план был снят. Всего только двадцать годов в нем прослужили, в тридцатом году его ломали трактором. Думали, что кирпича в нем будет много, а ни один кирпичикто в дело у них не сгодился… Пошли мы в первый раз, человек десять нас было. А дорогой шла с нами одна эстонка и все меня ругала: «Пошто ты, девчонка, идешь?» А туда пришли, так она говорит: «Мы тебя к Мане не возьмем». А была у нас блаженная Манечка, юродивая. Ну, конечно, меня к ней взяли. Приходим к Манечке. Полная комната народу. Маня впереди стоит. Лет ей сорок, косая, всю трясет ее. Она поглядела на нас, а я боюсь да и за народ прячусь. А она всех растолкала и прямо идет ко мне. И берет меня за руку и ведет вперед. «Ой какая хорошая девочка, — сажает меня да гладит. — Это наша монашенка. И даже наша регентша. Хорошо поет…» (А меня-то всю бьет со страху.) И подает она мне два такие пряничка — белые, а на них полоска красная. «На, ешь, ой они сладкие. А тебе они будут горькие. И никому их не кажи…» Она у нас вообще прозорливая была. Как кому уходить из монастыря… За неделю, за две начинает для своей куклы узелок собирать, котомку. Играет эдак. Это значит — кто-нибудь да уйдет из монастыря. А как кому умереть… Она тоже за неделю начинает куклу свою хоронить. Хоронит да и плачет, плачет… А мошкара у них там, как дождик мелкая, все в рот лезет. Говорить невозможно. Потом пошли мы в собор. Мне очень понравилось за службой, а на улицу выйду — опять не нравится, опять мошки в рот лезут, говорить нельзя… А я и не знала тогда, что у них за одежда. Мантии да рясофорные, а послушниц — камилавка да апостольник… Ладно-хорошо… Домой приходим.
Тятя спрашивает меня: «Ну, как, Санюшка, там в монастыре?» (Это он ласкательно, а то назовет — «голован толстоголовый». Он меня любил.) Я говорю: «Ой, которые богатые — хвосты-то долгие, победней которые — покороче, а уж совсем бедные, только вот тут у них…» А он и говорит: «Если ты пойдешь в монастырь, я тебе долгий хвост куплю». А я: «Пойдика сам, там и говорить-то нельзя, все мошкара, как дождик». Ладно-хорошо. Год прошел и второй — не ходила я. А на третьем году заболела у нас Мама, болела долго — восемнадцать недель в больнице лежала, потом дома. И обещанье дала. У нас обещанье дают, кто болеет, как выздоровеет — в монастырь идти. Ну, не вышло у нее обещанье, пришлось меня послать вместо себя. И пошла я молиться опять в монастырь, во второй раз. Во второй-то раз мне тут очень понравилось. Стала я говорить монашинам: «Я к вам хочу». Они меня отговаривают: «Очень трудно у нас». Мне уж четырнадцать лет было в то время. Я думаю: сами живут, а меня отговаривают, места им жалко. Пришла домой и стала потихоньку собираться.