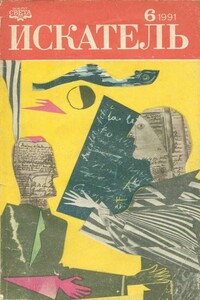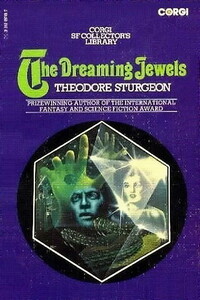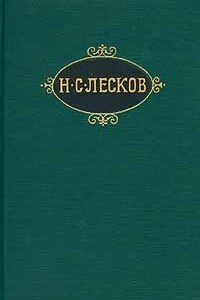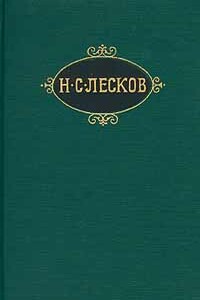Янси, человек, которому довелось пережить смерть, раскинул руки и не шевелился, наблюдая, как играет серебристый лунный свет в растрепавшихся волосах Беверли. Шелковистая грива волн рассыпалась по его плечу и груди, прильнувшая нежная плоть делилась теплом. Спит? Но как можно спать, когда за стенами отеля, под холодными лучами луны бушуют прибой и ветер? Волны внизу били по утесу, ревели среди источенных морем валунов, вздымались страшными призрачными гигантами из серебряных брызг, пронзая истерзанное, заходящееся в жалобном крике небо. Как можно спать, когда его сердце громыхает так близко от милого, кроткого, по-детски округлого лица? Господи, если бы только оно билось потише, по крайней мере не перекрывало шум прибоя, Беверли могла подумать, что это мерно рокочет буря. Хорошо бы заснуть… Два года он неизменно радовался, что ему больше не требуется отдых, а сейчас впервые пожалел; возможно, сон хоть немного успокоит сердце. «Беверли, моя Беверли, — безмолвно крикнул он, — за что тебе такое!» Хорошо бы кровать была чуть пошире, чтобы тихонько отодвинуться, уйти в темноту, став для нее чем-то бестелесным, раствориться в этом шипении и громе, угрюмом ропоте обезумевшего моря — просто новый звук среди многоголосья звуков.
На второй кровати беспокойно зашуршала простыней Лоис. Не шевельнувшись, Янси скосил глаза в ее сторону. В изгибах смутно белеющей ткани угадывались очертания тела; лицо и волосы — сгустки темноты разных оттенков на фоне подушки.
Лоис была худощавой, строгой, серьезной, а Беверли веселой и открытой, напоминала ярко раскрашенный мячик, упруго скачущий по жизни в такт веселой мелодии. Лоис ступала так, будто почти не касается пола, а когда говорила, казалось, специально подбирала интонацию к тону кожи, расцветке и материалу любимых платьев — темных, шелковистых. Ее удлиненные глаза казались загадочными и пустыми, как у красивого зверя, лицо оставалось неподвижным и холодным, словно река, скованная льдом. Лишь слегка подрагивающие крылья носа и уголки рта, а иногда едва уловимое движение плечей и чуть приподнятая бровь выдавали потаенную страсть и спокойную силу. Да, Лоис… сплав бесконечных загадок и неуловимых оттенков, тонкий волнующий аромат и негромкий завораживающий смех.
Она опять шевельнулась. Янси знал, что сейчас Лоис, как и он, не спит, всматривается в темноту, пытаясь разглядеть неровные пятна теней, отпечатавшихся на потолке. Пронизанный брызгами лунный свет не позволял различить детали, но Янси хорошо помнил ее лицо. Он нарисовал себе тонкую линию сжатых губ, уголки рта, едва уловимо подрагивающие вопреки внутреннему напряжению, сковавшему мускулы… Шуршание простыни, сопровождавшее каждое движение Лоис, раздражало все больше и больше. Если, несмотря на разыгравшийся шторм, он четко различает эти звуки, как может не беспокоить Беверли гулкое биение его сердца?
Янси с трудом сдержал улыбку. Ну конечно, Беверли не дано слышать так, как ему. Она по-иному видит, чувствует, не способна использовать все возможности мозга. Бедная Беверли! Моя бедненькая милая, веселая, верная птичка! Ты скорее создана быть супругой, чем полноценной женщиной. Где уж тебе тягаться с той, в которую природа вложила женского естества больше, чем…чем в любую другую?
Что ж, так лучше, намного лучше, чем испытывать этот почти безумный в своей страстности, испепеляющий восторг. Сердце забилось ровнее, он чуть повернул голову, коснувшись щекой волос жены. Жалость сближает, ты ощущаешь коварную беспомощность, исходящую от безоружного существа. Зато ярость, подобно плотской страсти, всегда замкнута на себе, отстраняется от своего предмета, обрекает на одиночество.
Погрузившись в мерный гул ночи, он вытянулся на спине и лежал неподвижно, полностью расслабился, отдавшись на волю беспорядочно вспыхивавших и затухавших как мерцающие огоньки, мыслей. Казалось, он должен ощущать всю радость жизни, как никто другой на нашей планете. Какой бесконечный восторг: бодрствовать, постоянно чувствовать свое тело и одновременно парить чайкой в потоке собственных мыслей. Пожалуй, самое большое удовольствие Янси получал от ночной части непрерывно текущих суток. Днем он, стоит только захотеть, способен стать хозяином мира, ночью же, укрывшись одеялом и опустив веки в притворном сне, повелевал без малейших усилий. Он мог зажать в руке гармонию Вселенной и подчинить своей воле логику бытия, словно карточную колоду тасовать измерения, развернуть веером ворох бесконечно разных картин и образов, выбрать приглянувшееся и отбросить остальное. Янси с пронзительной четкостью помнил все, что произошло с тех пор, как он умер, и ясно представлял свою жизнь перед этим. Теперь, желая укротить взбунтовавшееся сердце, чтобы Беверли не проснулась, чтобы сон и дальше хранил ее неведение, он решил прибегнуть к волшебной силе воспоминаний. А поскольку само сознание того, что Лоис сейчас совсем близко, казалось невыносимым, он спрятался в прошлое, обратился к ее образу, созданному из воспоминаний, надежд и впечатлений, живущему лишь в нем и только для него, как сокровенная тайна. Эта вторая Лоис, словно неотвязный призрак, всегда оставалась рядом, ее присутствие сотрясало душу как взрыв, рождая смутное чувство вины. Но с подобными сложностями он мог совладать, спрятать от чужих глаз… А память уносила все дальше, прокручивая ленту жизни в обратном порядке: момент воскрешения из мертвых, черная дыра небытия, первая встреча с Лоис и наконец тот день, когда он, средний американец, счастливый обладатель стандартного набора обыкновенных чудес нашей культуры, — любящей жены, работы, устоявшегося образа жизни, — обрел вдруг уникальное, недоступное другим чудо.