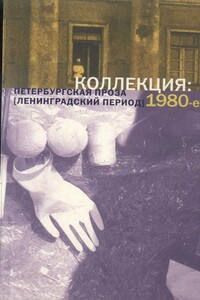Стефан Мендель-Энк
Три обезьяны
Спасибо Малин
Двое суток бабушка пролежала в холодильной камере, а никто и не подумал попросить раввина благословить место.
Об этом вспомнила тетя Лаура. На светофоре рядом с Сальгренской больницей только-только зажегся зеленый свет. Мама опустила стекло и прикурила тонкую белую сигарету от зажигалки с золотым кантом. Она не собиралась брать на себя вину. Она оповестила родственников и приготовила все для поминок. Тем более что в машине, сказала она, сидит человек, который не работает и которому нечем заняться. Может быть, она могла бы взять на себя труд позвонить раввину, если уж вдруг стала такой благочестивой.
Тетя Лаура перегнулась через нас с Миррой и ударила маму кулаком в бедро. Мамин папа велел им успокоиться. Рафаэль нажал на газ, и мы помчались в гору к Гульдхедену, через весь город, мимо конечной остановки третьего трамвая, на покрытую гравием парковку.
Мягкий ветер дул над каменными плитами могил еврейского кладбища Гётеборга. В воздухе висели редкие капли дождя.
Моше Даян прислонил метлу к стене молельни. Скорбно подмигнув единственным глазом, он смотрел на нас долгим понимающим взглядом. Ему было больше восьмидесяти, он был весь седой и согбенный, с длинными когтеобразными пальцами. Общего с настоящим Моше Даяном у него была только пиратская повязка.
Можете побыть там одни десять минут, — разрешил он. — Никаких фото, никаких сигарет, fierstein?[1]
Он нажал на ржавую ручку, и темно-коричневые двери молельни распахнулись. Все выглядело меньше, чем тогда, но в целом точно так, как я запомнил. Запах сырого дерева, большая звезда Давида на дальней стене, желтое сияние за ней.
Последний раз здесь было битком набито, вдоль стен группками стояли люди, а от тяжелого воздуха запотели окна. Сейчас в молельне было пусто. Перед звездой Давида в гробу с открытой крышкой лежала бабушка, мамина мама. Сухая кожа обтягивала скулы. Мама и тетя Лаура сели с обеих сторон у изголовья гроба, соприкоснувшись лбами. Они обняли друг друга за плечи и стали омывать тонкую кожу бабушки своими слезами. Каждая взяла ее за дряблую руку, хваля ухоженные ногти и обнимая ладони, которые гладили землю в порту Треллеборга и выписывали рецепты из еженедельника «Хеммет».
«Я хочу ее поцеловать, мне можно поцеловать ее, Рафаэль, что говорит Тора?»
Лаура так низко наклонила голову, что от бабушкиного лица ее отделяли каких-нибудь десять сантиметров. Не получив вразумительного ответа, она решила, что можно. Держа бабушкино лицо в своих ладонях, она принялась покрывать ее щеки пятнами губной помады, которые стирала большим пальцем.
Из внутреннего кармана она достала серый карманный фотоаппарат. Несколько раз нажала на кнопку: ничего не произошло. Она встала на стул, потрясла фотоаппарат, но тот по-прежнему не работал. Лаура вытерла линзу рукавом пиджака и сказала, что надо было взять полароид.
Мама порылась в сумочке в поисках своего фотоаппарата и заметила, что правильно говорить так: «Поль — э — ройд».
«‘Пола — ро — ид’, — Деббелочка».
«Поль — э — ройд», — повторила мама. Это же американская марка, и надо произносить на американский лад.
Тетя Лаура проинформировала маму, что она тридцать лет прожила в Нью-Йорке и что если бы там действительно выражались таким mishiggine[2] образом, она бы это усекла. Не поднимая глаз от сумки, мама сказала, что так бы наверняка и было, если бы она регулярно общалась с другими людьми. На работе, например.
Судя по моим часам, уже перевалило за четверть одиннадцатого. Десять минут, обещанные нам Моше Даяном, истекли. Тетя Лаура опустилась на стуле на корточки и попросила меня и моих брата с сестрой встать за гробом. «До чего же ваша мама способный человек, — заметила она, расстегнувшись. — Подумать только, жить в Гётеборге и так хорошо знать английский». Она изобразила мамин шведско-английский акцент и не смогла удержаться от смеха.
У мамы стали медленно раздуваться ноздри и распахиваться глаза. Выдвинув челюсть, она в конце концов замахнулась на Лауру кулаком, и та быстро попятилась. Поскользнувшись, Лаура потянулась рукой к спинке стула, и на секунду показалось, что ей удастся удержаться. Но в следующее мгновение она ничком упала в гроб.
Спустя каких-то полчаса началась церемония, и все было приведено в порядок. Пришли бабушкины сестры со своими семьями. Дяди в кепках стояли, широко расставив ноги и опираясь на палки, а тети, от которых пахло сладкими духами, раздавали бумажные носовые платки. У задней стены, на приличном расстоянии от мамы, сидели люди, которых я не видел больше десяти лет.
Прочитав молитвы, раввин похвалил бабушку за ее выпечку, которая часто украшала субботний киддуш[3] в общине, и за ее вклад в еврейскую карточную игру. Использованные платки упали на пол, коробки с новыми пошли по кругу.
Я был одним из семи мужчин, которые несли гроб по кладбищу. Мы поднялись в гору и остановились у ямы к северу от парковки. Когда настала моя очередь бросить горсть песка на гроб, я изо всех сил старался представить себе бабушку, но у меня перед глазами все время были картины предыдущей церемонии, в которой я участвовал. Когда в тот раз я поднимал лопату, за мной вилась длинная очередь. Дымка, которая заволокла зимнее небо, объятия взрослых. Звони. Заходи. Приходи с сестрой.