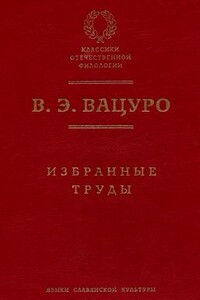В 1910 году В. Я. Брюсов задумывал издание сборника своих статей о Пушкине. Сохранился план этой неосуществленной книги, в котором наше внимание должен привлечь один пункт, в разной мере реализованный в нескольких статьях Брюсова («Разносторонность Пушкина», «Пушкин-мастер»). Это пункт — «Темное в душе Пушкина», под которым Брюсов понимал «Египетские ночи», «В начале жизни школу помню я…», «Пир во время чумы», «Не дай мне Бог сойти с ума»; перечисленные произведения, с его точки зрения, предвосхищали символизм XX века[1].
Несколько ранее в статье «Священная жертва» (1905) он высказался более развернуто. «Подобно Баратынскому, Пушкин делил свои переживания на „откровения преисподней“ и на „небесные мечты“. Лишь в таких случайных для Пушкина созданиях, как „Гимн в честь чумы“, „Египетские ночи“, „В начале жизни школу помню я“, сохранены нам намеки на ночную сторону его души»[2]. Согласно Брюсову, в этом «принудительном молчании» потерялись для нас целые «бури страстей», откровения, ибо Пушкин-поэт отделил себя от Пушкина-человека, как он отделил жизнь от искусства.
Статья «Священная жертва» была столько же работой о Пушкине, сколь литературной декларацией символизма, как понимал его Брюсов в 1905 году. Напомним, что он рассматривал новейшую поэзию как непосредственную наследницу реализма XIX века: объектом ее является жизнь в ее многообразии, поскольку она отражается в душе поэта и в его жизни; символ — язык этой поэзии, содержание же — светлые и темные стороны души, предстающие как единство. Все это нам придется иметь в виду, когда речь пойдет о брюсовском продолжении «Египетских ночей»; сейчас же заметим, что к 1910 году относятся вспышки острого интереса к проблемам подсознательного и даже мистического у Пушкина (М. О. Гершензон, В. Ф. Ходасевич). Было бы ошибочно думать, что все эти концепции полностью умозрительны, — нет, они опирались на реальный материал, но интерпретированный в духе эстетических исканий начала века. Ученые, исходившие из других методологических посылок, усвоили целый ряд сделанных в это время наблюдений и выводов. Так, Д. Д. Благой в «Социологии творчества Пушкина» писал даже о настроениях «декадентства», «ущерба», выразившихся «с особенной силой» в творчестве Болдинской осени 1830 года[3]. Специфически «декадентскую» тему, излюбленную символистами, Благой видел, в частности, в теме «предельного сближения в одном переживании любви и смерти, теме любви перед лицом смерти, любви „при гробе“»)[4]; она проходит в «Каменном госте», «Пире во время чумы», она же является нам в «Египетских ночах».
В статье «Египетские ночи», написанной для Венгеровского издания сочинений Пушкина (1910) и затем вошедшей в посмертный сборник статей Брюсова «Мой Пушкин», Брюсов очерчивает пушкинский замысел «Египетских ночей». С исследовательской осторожностью он рассматривает две возможности «продолжения» повести: Пушкин мог сосредоточиться на контрасте между современной жизнью и Античностью (к такому решению склонялся сам Брюсов) или выразительнее оттенить античный эпизод, вложив его в раму современного рассказа. Брюсов отказался от интерпретации текста, только наметив три культурно-психологических типа любовников Клеопатры: стоик Флавий — «олицетворение Рима и его высшей доблести — храбрости», эпикуреец Критон — «олицетворение Эллады», для которой нет ничего выше наслаждения, и третий, безымянный, любящий Клеопатру первой, истинной любовью. «Поэма о Клеопатре» для Брюсова является центральной в «Египетских ночах». «Прозаический рассказ, — пишет он, — является только ее рамой. Сцены современной жизни только оттеняют события древнего мира»[5].
Это замечание входит в некоторое противоречие с конечным, более осторожным выводом самого же Брюсова, и оно дань его давнему, устойчивому художественному интересу. Современная тема в «Египетских ночах» никак не могла быть «только рамой», потому что в ней намечено слишком много проблем, существенных для позднего Пушкина: судьба искусства в современном мире, профессионализм и дилетантизм в искусстве, социально-психологическое состояние общества и т. п. Акцент на теме Клеопатры означал, что именно она находится в фокусе внимания самого Брюсова.
В монографии «Валерий Брюсов и наследие Пушкина», о которой нам придется еще говорить специально, В. М. Жирмунский обращал внимание на то место статьи Брюсова, где характеризуется античное мироощущение. Оно, пишет Брюсов, «было культом плоти. Античная религия не стыдилась Красоты и Сладострастия». Клеопатра — воплощение телесной красоты, которая, как и наслаждение, является даром божества. Брюсов приводил в пример священную проституцию при античных храмах — и считал, что Клеопатра «становится в ряды таких храмовых проституток». Но «в миросозерцании, основанном на культе плоти, должны господствовать две идеи: наслаждения и смерти… Клеопатра является как бы олицетворением этого античного мира»[6].
Все это и оказывается основой той художественной концепции, на которой выросло брюсовское продолжение «Египетских ночей», завершенное к 1916 году. Под «Египетскими ночами» здесь понимается только стихотворение «Клеопатра» 1828 года, и, соответственно, «героями» становятся «Клеопатра и ее любовники», а главной темой — психологическое, этическое и философское содержание возникающей коллизии.