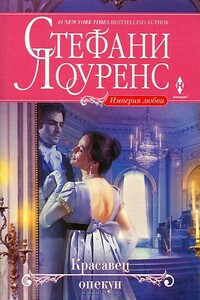— Приди, — прошептала она. — Ну, приди же скорей…
Она стояла в дверях лодочного сарая, сунув руки в карманы передника, — на случай, если за ним, как бывало, кто-нибудь увяжется. Откуда им знать, что прогулка к фьорду — это всего лишь прогулка к фьорду, вдруг им взбредет в голову составить ему компанию? А если он придет не один, и здесь обнаружат ее, она просто объяснит, что хотела набрать холодной воды из фьорда залить свежую сельдь. Потому прихватила ведро.
Жаркий воздух в сарае был неподвижен, солнечный свет полосками просачивался сквозь доски и освещал пробившиеся среди камней пучки зеленой травы. С каким удовольствием она бы сейчас разделась и плюхнулась в воду фьорда, все еще по-зимнему холодную, ногами ощутила бы ракушки и песок, а по бедрам и икрам скользили бы водоросли. Забыла бы его ненадолго, забыла бы и, снова вспомнив, еще больше обрадовалась.
— Приди же, ну, пожалуйста…
Дверь в сарай была приоткрыта, чтобы он смог войти. Перед сараем наискось лежала вытащенная на берег лодка. Нос остался в воде, и о его просмоленную поверхность разбивались волны. Чайки гонялись друг за другом, черно-белые точки в ярко-красном зареве, ошалевшие от солнца и внезапной жары. Все обсуждали жару и наступившие вместе с миром теплые вёсны. Два мирных года в стране, и снова настало тепло. Поля ломились от зерна и картофеля, ягодные кусты и фруктовые деревья гнулись под тяжестью урожая, даже завезенные из Германии деревья росли с безумной скоростью. В ту весну, когда пришли немцы и начали тут всем заправлять, было так холодно, что лед на фьордах лежал почти до конца мая.
Она все еще радовалась миру и гадала, когда же начнет принимать его как должное, как, в общем-то, и положено. А может, радость происходила из какого-то другого источника? С ним она познакомилась в первое послевоенное лето. Познакомилась… Нет, она всегда его знала, они даже несколько раз обменивались простыми репликами, он ведь был вхож во все дворы, как и большинство соседей. Но вдруг, в тот летний вечер на Снарли, когда все сидели перед домом после целого дня работы, покрыв крышу торфом, сидели, потные, отдыхая от жары и трудов, он вбежал к ним, и она тут же поняла, что стремился он к ней. Она поняла это всем телом. Он видел каждую частичку ее тела: шею, потные кудряшки, прилипшие ко лбу, руки, которыми она уперлась в колени, ноги, загорелые и блестящие, прямо напротив. Кто-то налил кружку пива; от пива она развеселилась, он тоже пытался смеяться с другими, но взгляд его все время останавливался на ней, и она расцветала, а когда почувствовала, что подол платья задрался до колен и приобнажил бедра, то задрала его еще чуть-чуть, и еще, и полностью открыла колени, и все смеялась, и чувствовала боль, разросшуюся в крестце до вскрика.
Она шла домой, а он стоял в лесу и ждал. Она дотронулась до него, посмотрела в глаза и тут поняла, что все поменялось. Не только кончилась война и она выросла за эти годы, а весь мир стал другим, они стояли и создавали новый мир, вдвоем: деревья и пригорок стали другими, а с ними и фьорд внизу, летнее небо с летящими чайками; он наклонился и уверенно поймал её поцелуй. О неприятном она даже не думала.
Вот, идет! Один слава Богу. Она всхлипнула и по чувствовала дрожь в теле, кожа в духоту и жару покрылась мурашками, во рту пересохло. Он размахивал руками при ходьбе, загорелый лоб блестел, он смотрел на свои деревянные башмаки, вышагивая по крутой каменной тропинке. Под грубой рабочей одеждой он весь принадлежал ей, за запахом тяжелого труда таились ее запахи, она хотела вылизать его глаза, чтобы они видели только ее, хотя прекрасно знала, что он и так кроме нее ничего не видит. На его хуторе она уже чувствовала себя как дома, там теперь ее место, он устроил так, что она могла быть там постоянно. Но время от времени они уходили сюда или на сеновал, или в лес, подальше от тонких стен спальни, где кругом уши.
Его деревянные башмаки поскрипывали, задевая высушенные солнцем водоросли. Перед сараем он остановился.
— Анна? — тихо позвал он сквозь темную щель приоткрытой двери.
— Я здесь, — прошептала она и легонько толкнула дверь.
Когда в половине одиннадцатого воскресным вечером зазвонил телефон, он, разумеется, знал, по какому поводу звонили. Он схватил пульт и уменьшил громкость, по телевизору шел репортаж об Аль-Каиде.
— Алло, вы позвонили Маргидо Несхову.
«Надеюсь, это старик, умерший в своей постели, а не авария какая случилась», — подумал он. Оказалось, ни то и ни другое, молодой парень повесился. Звонил отец, Ларе Котум. Маргидо прекрасно знал их семью.
На фоне раздавались пронзительные крики, нечеловеческие, жуткие. Подобные крики были ему знакомы: крики матери. Он спросил отца, сообщили ли они врачу и приставу. Нет, отец сразу же позвонил Маргидо, зная, чем тот занимается.
— Надо бы позвонить приставу и врачу тоже, или вы предпочитаете, чтобы я позвонил?
— Он повесился… не обычно. Он скорее… задушил себя. Это чудовищно. Позвоните вы. И приезжайте. Просто приезжайте.
Он не поехал на черной перевозке, взял «ситроен». Лучше пусть пристав вызовет «скорую». Он звонил по мобильному, перекрикивая шум включенной на полную печки, на улице было минус три, третье воскресенье декабря. Он дозвонился и до пристава, и до врача, по воскресеньям всегда мало вызовов. И в этот тихий холодный вечер скоро весь двор забьется машинами, народ с соседних хуторов будет прижиматься к окнам и удивляться. Увидят «скорую», машину пристава, врача и белый фургон, который несколько человек, возможно, узнают. Они увидят свет, горящий в окнах намного дольше принятого, но не осмелятся позвонить соседям так поздно, а вместо этого проведут полночи без сна, вполголоса обсуждая, что же могло случиться на соседском дворе, и глубоко в душе испытывая стыдливую радость оттого, что их несчастье обошло стороной.