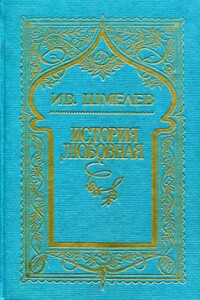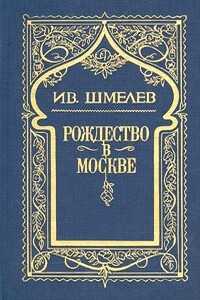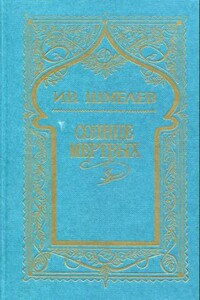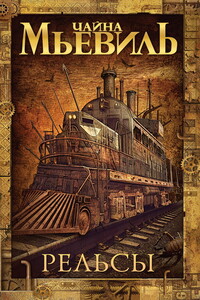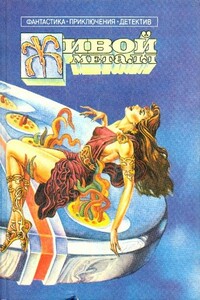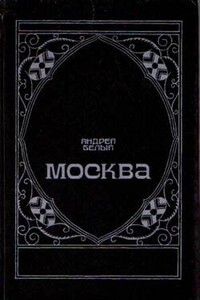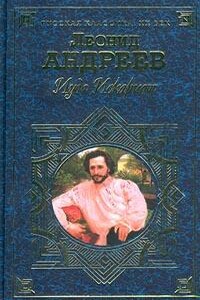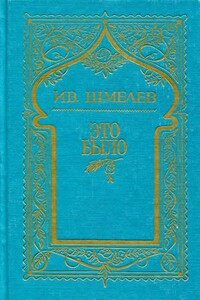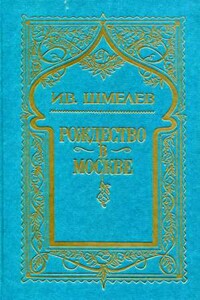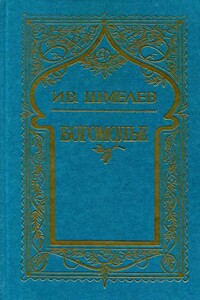Е. Осьминина. «Рыцарь саблю обнажил…»
В 1927 году в Париже в русском журнале «Современные записки» начал печататься роман Ив. Шмелева «История любовная». По воспоминаниям одного из издателей, нетерпеливые читатели являлись в редакцию за гранками, не желая ждать очередного номера с продолжением. Получилось точно так, как предсказывал сам Иван Сергеевич:
«За „читабельность“ ручаюсь. Полагаю, что читатель будет сердиться, что приходится дробить. Вещь ЛЕГКАЯ. Будто сидишь в кинемо и – всякие представления! На макароны не задаюсь. Вопросов не ставлю и не разрешаю. На небеса в детском аэропланчике не мечусь. А просто – запускаю „монаха“ и „змея“. „Героев“ не имеется, а жители. „Любовей“ больше, чем достаточно… „Циник“ имеется и даже 1 1/2 циника Романтизма – хорошая доза есть. На… С прищуром. Вот какой товар-то! Много „стихов“ всякого сорта. Есть такой даже: „Рыцарь саблю обнажил, свою голову сложил!“ Или: „У одной-то глаз подбитый, у другой – затылок бритый, третья – без скулы!“ Не подумайте, что это всё героини! Нет, мои героини (две) – прямо к-р-р-а-савицы, с небо-голубыми глазами, а одна даже – бельфам!
Есть даже такие стихи:
И я в железные объятья,
Как Люцифер, тебя возьму…
И будешь ты вопить проклятья
И вспоминать свово… Кузьму!
Но есть и лирические:
Мне незнакома женщин ласка,
Но слово <жен-щи-на> – как сказка!..
Одним словом – гимн любвям! Вот подите, как все это преломляется. Но надо – для очистки и отчистки с жизнью»[1].
Письмо это сразу настраивает на шутливо-бытовой стиль романа о гимназической любви; но сначала надо сказать о жизненных прототипах и реалиях произведения.
Описанный дом на Калужской улице – это дома 15, 17, принадлежавшие купцам Егору Васильеву и Сергею Ивановичу Шмелеву[2], а домом 19 владела мещанка Анна Ивановна Карих Дом, где произошло убийство, фигурирует в рассказах «Кошкин дом» (1924) и «Миша» (впервые: Возрождение. 1928, 8 февр.). В начале двадцатых годов Шмелев собирался написать роман «Кошкин дом», связанный, вероятно, с каким-то сильным детским впечатлением. Мещанское училище на Калужской площади – впоследствии Горный институт. Церковь Ризоположения – Донская улица, 20, а вот «часовня» была разрушена в двадцатые годы – это часовня Ферапонтова Лужнецкого монастыря на Калужской площади.
Словесник Федь-Владимьгч – Ф. В. Цветаев (1849–1901), дядя известной поэтессы, инспектор Московского учебного округа и преподаватель 6-й гимназии в Б. Толмачевском переулке, где учился Шмелев. Женька Пиуновский – друг детства. Его дальнейшая судьба описана в очерке «У плакучих берез» (1915, впервые в сб.: В помощь пленным русским воинам. – М., 1916). Старец Варнава – преп. Варнава Гефсиманский (1831–1906), встречи с которым изображены в рассказе «У старца Варнавы» (1936, впервые: Православная Русь. 1936. № 1). Синеглазая девушка, промелькнувшая на последних страницах книги, – будущая жена писателя О. А. Охтерлони (1875–1936). Она училась в Патриотическом институте в Петербурге и приехала на каникулы к родным, снимавшим квартиру в доме Шмелевых. Там молодые люди и познакомились. Сцена с поцелуями у забора, как нам представляется, где-то подсмотрена или пережита – она описана в неоконченном произведении «Зобово логово» (1918): там героев зовут Гриша и Сима Однако по поводу основного сюжета книги Шмелев писал: «Рассказ, как увидите, (или роман) бытово-психологический, с юмором. Могут думать, что это и от автобиографии. Нет, могу заверить. Автор здесь – в кусочках. Но, конечно, через ЕГО глаза пропускались»[3].
Авторские «глаза» прежде всего в общем настроении романа: мечтах ранней юности, упоенной литературой и грезами о будущем.[4] Шмелев сам начинал с Жюля Верна, Майна Рида, Мариэтта и Эмара; их стилизованное «присутствие» легко обнаружить в романе. Приведем еще один автобиографический «кусочек» из очерка «Книжный человек» (1917): «…Август, холодеющие вечера, галки в стаях. По садам – тихие, грузно завешанные рябины. Бывало, прибежишь из гимназии и – в сад: не оборвали ли рябину, оставленную до морозов? Залезешь на нее, устроишься в развилке сучьев и почитываешь „Великого предводителя аукасов“. И ешь до оскомины упруго-лопающиеся горькие ягоды. А сам – далеко-далеко, и какие чудесные дали видишь!.. И сердце бьется высоким чувством, и душа жаждет чудесного геройства».
В этом состоянии – жажде чудесного геройства – наш молодой человек и сталкивается с низкой прозой жизни. Тут и вторжение в его стилизованные грезы сочной и грубой замоскворецкой речи; и мыло «Конго», которое олицетворяет «одуряющие ароматы Востока»; и смешные ситуации, когда «прекрасная из Муз» егозит с кучером и конторщиком. И наконец, общая литературная аллюзия к «бедному рыцарю», к «Дон Кихоту», которого наши герои читают на той самой рябине. Вспомним романсы, сравнения горничной («Дульцинея с тряпкой»), двоящуюся пару: герой – Женька и Дон Кихот – Санчо Панса (причем попеременно). И презрение к земной пошлости во имя возвышенной любви к «прекрасной даме».
Но Шмелев не был бы Шмелевым, если бы сохранил тон этой нежной насмешливости и не начал бы, по обыкновению, свой серьезный, скорбный и высокий разговор.