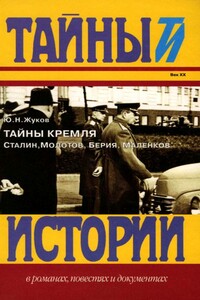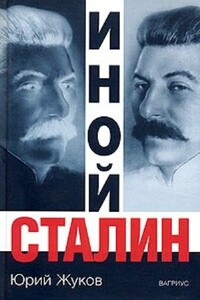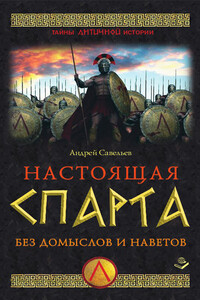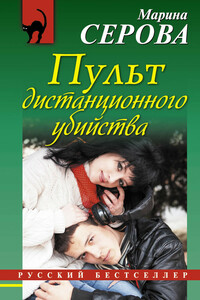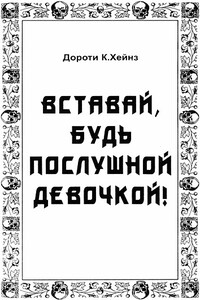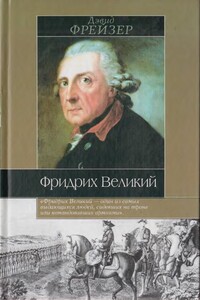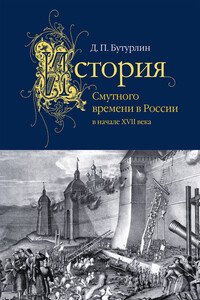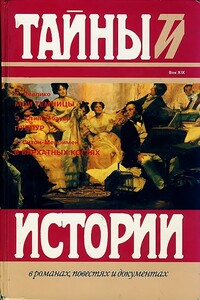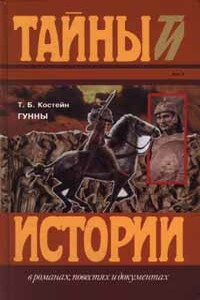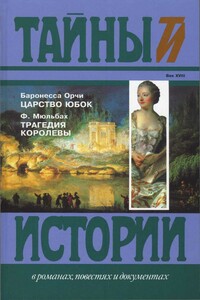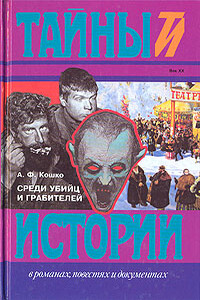Долгие десятилетия определение того, что же на самом деле представляла собой власть в СССР, было практически невозможным. Те, кто находился в Кремле, тщательно и надежно скрывали от общества все с этим связанное. Скрывали и то, кто же в действительности, прикрываясь именем партии, ее Центрального Комитета, Верховного Совета и Совета Министров СССР, принимает важнейшие решения, от которых зависела жизнь страны, которые определяли судьбы Советского Союза, его населения; и то, как принимались подобные решения, и даже многие, если не большинство, сами решения.
Объяснялось такое положение до предела просто. В случае ошибки, просчета, и особенно — в случае провала выработанных планов никто не желал нести ответственности за содеянное, уходить добровольно или принудительно в отставку, лишаясь тем самым дорогой ценой доставшихся властных полномочий, права бесконтрольных действий. А добивались этого весьма легко. Подлинная власть всегда была «закрытой», существовала негласно, не раскрывала своего настоящего состава. Кроме того, сами документы, фиксировавшие как выработку, так и принятие того или иного решения, без учета их реального содержания, объявлялись «строго секретными», составлявшими государственную тайну, не подлежащими оглашению не только сразу же или хотя бы впоследствии, через определенный мировой практикой срок — 30 лет, но и вообще никогда. Тем самым делали их недоступными исследователям в будущем.
Власть предержащие сами вырабатывали историю давнего и недавнего прошлого, самую благоприятную для них, делавшую только их правыми, всегда и во всех случаях действовавшими безошибочно. Правда, поступали так лишь по отношению к тем, кто находился у власти именно в тот момент. Своих же предшественников, уже отрешенных от власти, либо умерших, превращали в своеобразных «козлов отпущения». Только на них возлагали ответственность за все просчеты, ошибки и даже преступления в прошлом, умолчать о которых уже было просто невозможно. Но даже и такую своеобразную огласку негативных фактов оборачивали в свою пользу. В пользу все той же реальной власти, которая получала, тем самым, возможность выступить в роли «разгребателей грязи», разоблачителей. В роли тех, кто и исправлял весьма вовремя положение, разумеется, на благо страны.
Отсюда и проистекало отсутствие научных трудов, которые на основе документов анализировали бы и формирование власти, ее подлинный состав, и механизм принятия ею решений, и сами решения, но непременно — в контексте реально существовавшей в стране и мире ситуации. Подменяя такие работы, существовала одобренная и утвержденная свыше (самою властью, стороной явно заинтересованной и пристрастной, предельно субъективной) официозная версия минувшего.
Поначалу ею служил пресловутый «Краткий курс». Затем — его модификация, отразившая только смену лидера страны, возвеличившая нового и порочившая его предшественника — «История Коммунистической партии Советского Союза». Книга, оказавшаяся более стабильной версией самооценки власти, выдержавшая за четверть века семь изданий, раз от разу становясь все более безликой, чуть ли не абстрактной, ибо отличались издания друг от друга лишь последовательным вычеркиванием все новых и новых имен. Уже при своем возникновении сумела обойти упоминание практически всех руководителей партии и государства — Сталина, Молотова, Маленкова, таких крупных деятелей, занимавших ключевые посты в системе управления страной, как Берия, Каганович, Булганин. А если их имена и появлялись на страницах, то лишь уничижительно. Так же, как и тех, кто удостоился негативной оценки в «Кратком курсе» — Троцкого и Зиновьева, Каменева и Бухарина, Рыкова, по-прежнему остававшихся «врагами» партии и, следовательно, страны, народа.
Появившиеся на рубеже 60—70-х годов уже многотомные издания — «История Коммунистической партии Советского Союза», вторая серия «Истории СССР» — пять томов, охватывающих период «От Великой Октябрьской социалистической революции до наших дней», не изменили положения, не внесли ничего нового, принципиального. Привели к окостенению официозной концепции. Суть дела заключалась отнюдь не в том, что и однотомник, и многотомники готовились под редакцией, жестким контролем одного человека — Б. Н. Пономарева. Истинная причина удручающего однообразия в подходах и решениях заключалась даже не в том, что тема «власть в СССР», как и прежде, не считалась объектом изучения. Крылась она в том, что тема эта оставалась оружием политики. Должна была использоваться только для того, чтобы поддерживать у народа безоговорочное принятие власти как таковой, веру в непогрешимость ее, абсолютную правоту всегда и во всем. Вселять в народ «чувство беззаветной преданности» к власти вообще, к той политической системе, которая существует.
Сама же концепция, впервые нашедшая наиболее откровенное выражение в «Кратком курсе», в дальнейшем практически не менявшаяся по существу (претерпевая лишь незначительные коррективы в деталях, связанных с оценкой лидеров прошлого), сводилась к одному, незыблемому постулату. У власти, во главе страны, всегда, при любых обстоятельствах, несмотря ни на какие перемены, находилась партия. Партия в лице ее Центрального Комитета, постоянно действовавшего Политбюро. Они-то, якобы коллективно, и принимали (от имени ничего не ведавшей о том партии) все решения. Во благо и страны, и народа. Ну, а если порой и допускались отдельными людьми отдельные ошибки, то происходило это якобы вопреки воле партии, центрального комитета, а иногда — и самого политбюро.