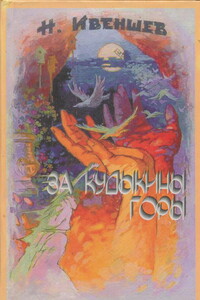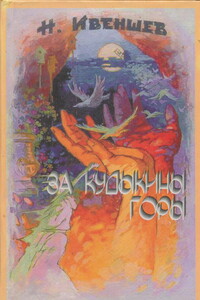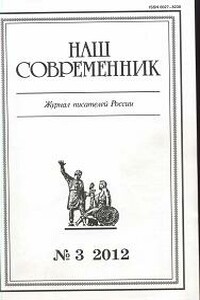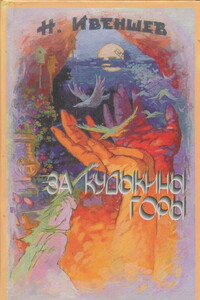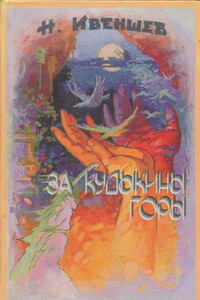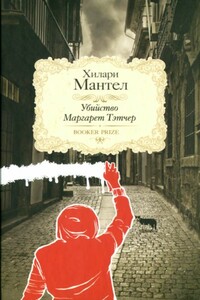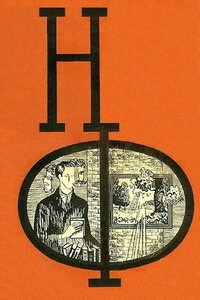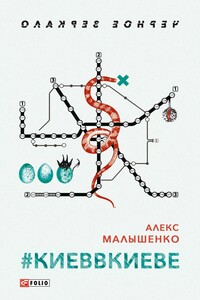Если вы где‑то обронили люльку — трубку, потеряли голову или разбили свое сердце, никогда не возвращайтесь туда, там вас непременно спалят с потрохами, как сожгли ляхи живого, не книжного Тараса Бульбу.
В данном случае уроненной люлькой оказалась маленькая записная книжка с ее московским телефоном. Номер был наспех черкнут ее рукой. И Сергей суеверно никуда его не переписывал. А наизусть не помнил. Он решил для себя: кончится семинар, возьмет билет домой, увидит свой вагон и прямо с Казанского позвонит.
Может, тогда хоть избавится от наваждения. Сколько можно вспоминать обшлаг ее шелкового платья, который скользнул по телу, и эту теплую то ли речную, то ли воздушную гладь, затмившую весь рассудок. И гладь, и младенческий, умиротворенный всхлип, и расширившиеся ее зрачки.
А может, и позовет? Прощай тогда, водокачка, прощай, станица, которая тутовой ягодой может капнуть на воротник рубашки.
От Москвы тогда ждали не только непонятных трансфертов, а и чистого воздуха. Вот устроила ведь столица семинар провинциальных драматургов, на котором он увидел реликтового Сергея Михалкова с темными старческими пятнами на висках.
Сергей, не Михалков, а Усольцев, жил в просторном гостиничном номере с головастым, коротко стриженным Володей Немчиновым. Конечно, Володя писал пьесы, не то можно было бы его счесть за уркагана. Глубоко посаженные глаза кемеровского драматурга глядели тяжело.
Может быть, для того, чтобы приобрести легкость, он таскал откуда‑то снизу бутылки с вьетнамской водкой. Корешок женьшеня — на этикетке. Водка не брала. «Она для мелкотравчатых вьетнамцев», — считал Володя. И все же он теплел. Доставал из клетчатого чемодана папку, перевязанную резинкой от велосипедной камеры. Пьеса называлась «За жизнь».
— Под Николая Коляду? — спросил Сергей. Володя только приставил к губам указательный палец. Тише, мол.
И читал, без интонации, монотонно. Герои пьесы «За жизнь», вполне трезво и практически мыслящие люди, сходили с ума. Это был сплав Александра Николаевича Островского и Эжена Йонеску.
— Бездарность, — оживляясь, пояснил Володя, — украшает себя эмоциями, соплявоплями. А у меня все в голом виде, без штанов.
Сергей Усольцев посоветовал, чтобы актеров он набирал из гарема. Скопцы сыграют блестяще.
Володя Немчинов схватил Сергея за рукав рубашки и смеялся минут пять. Он полностью потерял свое тюремное выражение и побежал снова за вьетнамской водкой.
Уже в дверях кемеровский драматург извлек из глубин своей памяти вьетнамское же ругательство: «Кон век тинау нев лон». Кто проверит — так ли оно звучит?!
— Раньше в Литературе господствовали почвенники, бабушки в полушалках, тетки у самоваров. Сейчас на очереди подпочвенники. Из‑под земли шахтерам видней! — балагурил Володя.
Под вечер в номер заглянула Света из Ульяновска. Назвала их бабелями. И прочитала свои стихи. Они были цветасты, как полушалки деревенщиков. А вот одна строчка почему‑то въелась в память: «В стылой гостинице, где проститутками…»
В гостинице стыль не ощущалась, наоборот, было душновато. И сколько бы Сергей ни вглядывался в лица кра-. соток, он не мог узреть в них следов порока.
А семинаристы — драматурги, кажется, были бесполы и любили только себя. Нестандартный Володя враз закон- 2 Заказ 54 чил пить вьетнамское зелье и рубанул по столу ребром ладони.
— Все, двинули на Басманную!
Им захотелось увидеть Зухру. Семинар вела поклонница творцов «серебряного века» Зухра Алимовна Мельникова. «Во мне намешано пятьдесят кровей, я по деду — уйгурка, а бабушка — из ростовских казаков», — пооткровенничала сразу же, на первом занятии Зухра. Ее сладкие восточные глаза всегда восхищались. Но Зухра — снайпер в своем деле. По реплике, по ремарке угадывала концовку пьесы. Прямо‑таки животный инстинкт.
На том первом занятии Сергей сказал, что Хармс сбрендил на сексе. Он выходил нагим на балкон, чтобы публику шокировать. Зухра задохнулась, покрылась пятнами. Чудака Хармса Зухра боготворила.
И еще у Зухры было преотличное свойство. Почти всех семинаристов она безбожно хвалила. Чем бездарнее оказывалась пьеса, тем горячее она хвалила драматурга. После такой оды молодой творец начинал ненавидеть даже шнурки на своих ботинках. К Володе и Сергею она отнеслась индифферентно, как к своим.
На Басманную они добирались перекладными: на метро, трамваем и вот уже, почти там, широченная гудящая улица. Когда Сергей перебегал ее, из нагрудного кармана выскочила записная книжка. Та самая, с ее единственными координатами — телефоном. Сергей кинулся назад. Он не слышал Володино «тпру», скрип тормозов. А только увидел бешеные глаза водителя. Одни глаза и ничего больше. А очнулся, когда Володя отдирал его пальцы от бетонного столба.
Володя в своем шахтерском городе играл в волейбол, его спортивная прыть и вытолкнула Сергея Усольцева из- под колеса. Записную книжку, истерзанную автомобильным потоком, они подобрали. Ее телефон уцелел. Но на Басманную они не пошли, выпили в вонючей забегаловке пива и вернулись в гостиницу.
В гостинице Сергей решился. Набрал ее номер. И опять ощутил за спиной у себя легкое атласное дуновение. Ее голос, ее. Тот же шелест.