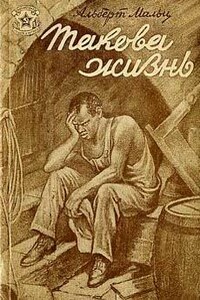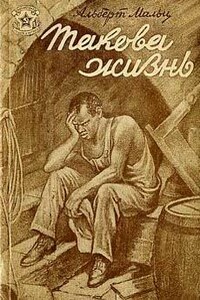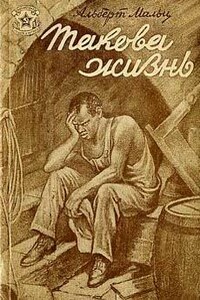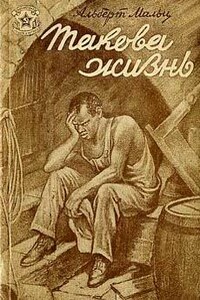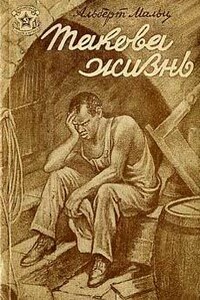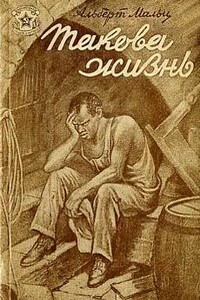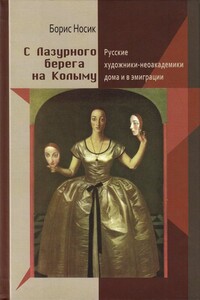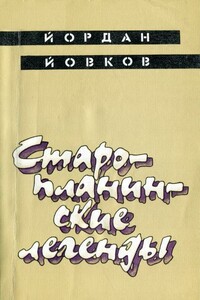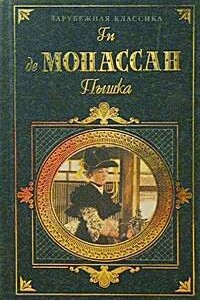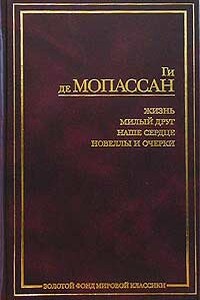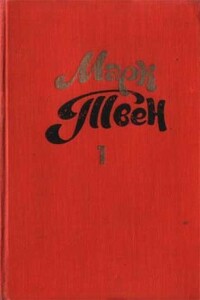Летнее луизианское солнце красным пятном стояло в мглистом небе. Тем троим, что ехали в открытой машине, оно казалось факелом, подвешенным на расстоянии фута от их головы. Двое из них развалились на заднем сиденьи, сняв пиджаки, повязав шею мокрыми от пота носовыми платками; рты у них были открыты, точно у рыбы, вынутой из воды. Третий, сгорбившись, сидел за рулем; он обвязал себе лоб цветной косынкой, чтобы соленые капли пота не стекали в глаза. Эти трое мужчин были – шериф и двое понятых. Они выехали произвести арест – во всяком случае, таковы были их предположения. Двадцать шесть миль по песчаной дороге пришлось проделать только потому, что Эвери Смоллвуд вызвал их по телефону. Он сказал: – Мистер Токхью, захватите с собой, пожалуйста, двух понятых, – и мистер Токхью захватил с собой двух понятых. Кроме этого им ничего не было известно.
Миновав тянувшиеся до самого горизонта ровные поля, засеянные высоко поднявшимся хлопком, миновав последнюю кучку ветхих лачуг – жилищ негров-издольщиков, – они выехали на великолепный участок, где стоял дом Смоллвуда.
После долгой езды по раскаленному песку дом, зеленая трава и высокие тенистые деревья вдоль дороги – кипарисы, смоковницы и громадные плакучие ивы с густой, как водоросли, листвой – показались истомившимся в открытой машине людям настоящим оазисом среди пышущей жаром пустыни. Шофер, тощий, веснущатый, почтенный на вид юноша в железных очках и с красной косынкой на лбу, глубоко вздохнул, набрав в лёгкие воздух, в котором вдруг почувствовались свежесть и влага. Понятой постарше, с бычьей шеей, лежавший сзади, приподнялся с кряхтением и сощурил свои черные, как смоль, красивые глаза, точно проснувшийся ребёнок. На его ребячьем, пухлом, тупом лице появилось простодушно-удивленнее выражение, словно он в первый раз в жизни увидел такое красивое место. И третий пассажир, шериф Токхью, потянулся всем своим телом – огромным и угловатым, принял более удобное положение и медленно поднял голову, напоминая собой какую-то неведомую колючую рыбу, всплывшую из морских глубин.
До бетонированной дороги, сворачивавшей к дому Смоллвуда, оставалось еще несколько ярдов. Шериф Токхью наклонился вперёд и ткнул молодого шофера в плечо своим костлявым пальцем. – Остановись-ка, Чарли, – сказал он.
Машина остановилась в тени разросшейся ивы. – Обождём здесь минутку, – сказал шериф. Голос у него был сиплый, пропитой, он цедил слова сквозь уголок рта, сжав свои тонкие губы, словно ему не хотелось зря тратить силы.
Гаррисон Таун, толстый понятой с бычьей шеей, был похож на вытянувшегося не по годам футболиста из школьной команды. Сейчас он старательно вытирал свое мясистое Нотное лицо и ругался негромко, но с преувеличенной выразительностью, свойственной мальчишкам, которые усядутся на корточках в кружок, покуривают, сплевывают и щеголяют друг перед другом своей грубостью. – Вот дьявол! – говорил он. – Ну и дьявол! Совсем изжарился! Как на огне! Сэм, – обратился он к шерифу, – можешь на мне яичницу сделать, и скорлупу разбивать не придется. Будто меня сварил кто, точно рыбу! – Он повернулся и мясистой ручищей ударил по плечу шофера, Чарли Рентия. – Ну, а ты как, Чарли?
– Да ну тебя! – жалобно протянул Рентль, – И так жарко.
– Чарли жарко, – сказал Гаррисон. – Чарли не в духе! – Он взъерошил жиденькие светлые волосы Рентля, запустив в них свои короткие пальцы.
– Иди ты к черту! – раздраженно сказал Рентль. Он мотнул головой.
Таун захохотал. – Это же бесплатный массаж, Чарли. Ты что – облысеть хочешь? – Он продолжал смеяться с преувеличенной веселостью. В его смехе, больше похожем на хихиканье, слышались распущенность и бесстыдство, как будто во всем, что ему казалось смешным, была какая-то скрытая непристойность. Таун оглянулся на шерифа, желая убедиться, оценил ли тот его паясничанье. Шериф Тохкью был занят. Он откупоривал свою утреннюю порцию виски.
За десять лет, прошедших с тех пор, как Сэм Токхью бросил хлопководство ради верных доходов, которые приносил ему официальный пост, и принял на себя обязанности шерифа округа Кларабелл, одна половина его жалованья шла его овдовевшей сестре в уплату за комнату и стол, а другая – на виски. До сих пор никто еще не видел шерифа трезвым и никто не видел его пьяным. По-видимому, он находился всегда в одной и той же строго рассчитанной степени насыщения.
Привычным движением языка шериф достал из-за щеки табачную жвачку и, аккуратно прицелившись, выплюнул ее в канаву.
Выпив с четверть пинты, словно это была простая шипучка, а не виски, он медленно опустил бутылку и с удовлетворением протянул – «а-а-а». Верхняя губа у него вздернулась, как у заржавшей лошади, обнажив неровные желтые клыки. Потом он снова стиснул губы.
Шериф был высокого роста, значительно выше шести футов, а руки и ноги его напоминали длинные колья, выдернутые из ограды. Ему было сорок пять лет, но выглядел он на все пятьдесят. Его тощую фигуру украшало обвисшее брюшко, похожее на маленький пивной бочонок. На таком худом теле брюшко выглядело весьма несуразно, но когда Токхью говорил о нем, его лошадиная физиономия морщилась от удовольствия, и он пояснял слушателям, что этот котелок вмещает в себя виски ни больше, ни меньше, как на шесть тысяч долларов, и при этом он хлопал себя по животу.