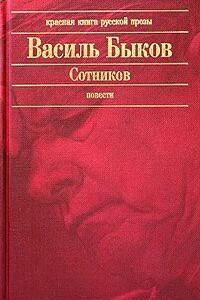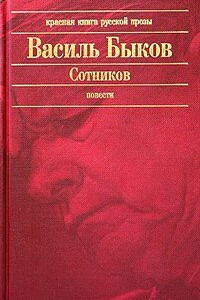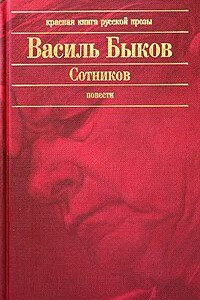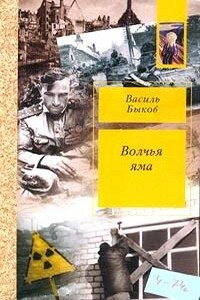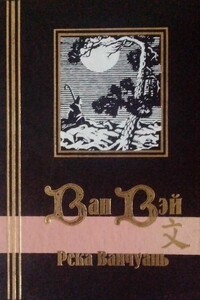— Нет! — сказала она, стукнув об пол ухватом. — Нет! И не думайте! Вы что, с ума сошли?
Сидя подле стола, они переглянулись. Старший, высокий, худой, по-юношески нескладный Алесь, сразу нахмурился, уходя в себя, на совсем еще мальчишеском, пухловатом лице пятнадцатилетнего Семки мелькнуло что-то упрямое и злое.
— Все равно уйдем!
— Попробуйте! Попробуйте, ироды! Ишь что надумали! Сопляки несчастные! Я вам покажу партизанов!
Это была угроза, но в ней чувствовалась не столько сила и уверенность, сколько ее материнская беспомощность, от которой она всхлипнула и с ухватом подскочила к парням. Они бы должны разбежаться, как делали это не раз прежде, но теперь даже не сдвинулись с места, и это вовсе озлило ее. Семка лишь вскинул нехотя руку, чтоб защититься, она ударила его несколько раз, не разбирая куда, потом один раз — Алеся. Старший принял ее удар с каменным безразличием на угрюмом худом лице, даже не вздрогнул, только плотнее сжал губы, и она поняла, что все это напрасно. Напрасен весь ее гнев, ее брань, ее запальчивая попытка вернуть уходящую власть над сынами. Отчаяние враз сломило ее, и, бросив ухват, она вышла в сени.
Несколько мучительных минут она корчилась на сундуке от бессильно-исступленной обиды, не в состоянии постичь непостижимое: почему они такие упрямые в этом гибельном своем безрассудстве? Она понимала, когда на это решались взрослые — окруженцы и свои мужики, но что там могло привлечь их, почти что детей, едва оперившихся в жизни подростков? Что они сделают там, в лесу? Разве только погибнут по-глупому, как погиб тот, что неделю назад все утро лежал на выгоне, такой молоденький, пригожий хлопчик в окровавленной военной рубашке. Так и они будут лежать где-то, и на них будут боязливо глядеть незнакомые люди, и пьяные полицаи будут пинать их подкованными сапогами, а по босым ногам их будут осатанело бегать жадные весенние мухи…
Нет, так не будет, хватит того, что без поры, без времени сложил голову отец, а у них еще, слава богу, есть мать, она не допустит этого, она ни перед чем не остановится. Она знает, кто подбил их на это гибельное дело, она найдет его и не оставит ни одного волоска в его фасонистом белом чубе.
С внезапно возникшей решимостью она подхватилась с сундука, выбежала во двор, но вернулась, метнулась по сеням в поисках подпорки и, не найдя ничего более подходящего, сорвала с крюка коромысло. Охваченная мстительным злорадством, она туго подперла коромыслом дверь в избу и бросилась на улицу, поправляя на ходу косынку и не утирая слез, которые все еще лились по ее щекам.
Она бежала по улице, распугивая кур у плетней, взбивая босыми ногами пыль, и голову ее распирало от множества гневных слов, преисполненных ее, материнской обиды. Она скажет этому Яхиму, что он душегуб, бессердечный ирод, она спросит, зачем ему эти зеленые мальчуганы. Если надумал, пусть себе и идет сам куда ему хочется — хоть в партизаны или в полицию, но только без них. Пусть он сейчас же объявит им, что никого с собой не возьмет, иначе она обломает об его голову все ухваты, оскандалит его на всю округу.
В сердцах она сильно толкнула дверь старенькой, покосившейся избушки, не закрывая ее, рванула за клямку вторую — на нее сразу пахнуло прохладой земляного пола и тишиной. Тогда она дернула занавеску на печи, с вороха грязного тряпья приподнялась белая голова старого, больного Лукаша, его подслеповатые, выцветшие глаза болезненно заморгали в недоумении.
— Где Яхим ваш?
— Якимка-то? А кто ж его знает. Разве теперича дети спрашиваются у родителей?..
— А ночью он спал дома?
— Не знаю я. Будто не слыхать было.
Конечно, что он мог знать, этот полуослепший, забытый богом старик, наверно, Яхима не так просто поймать. Она почувствовала, что весь запал ее гнева вот-вот иссякнет впустую, и опять не сдержалась. Правда, слез уже не было, были только удушливые спазмы в груди, и, пока она, прислонясь к печи, боролась с ними, Лукаш устало глядел на нее и постанывал, донимаемый своими болями.
Но нет, все равно она их не отдаст, они — ее дети, она для них мать и не согласится на их гибель, скорее сама ляжет трупом на этом их сумасбродном пути, но не пустит их к смерти.
Она почти все время бежала — через деревню, мимо с детства знакомых избенок, потом по выгону с молодой весенней травой, усеянной желтыми цветами одуванчиков, вдоль свежо и весело зазеленевшего нежными листиками овражка. Как за последнюю свою возможность, она ухватилась теперь за мысль обратиться к Дрозду, что жил в недалеком, через поле, местечке. Правда, с зимы он ходил в полицаях, был начальственно важен и строг, но она знала его мать и его с самого детства, все же он был ей двоюродный племянник — не чужой. Она расскажет ему о своем горе, и он должен чем-либо пособить, ведь мужчина неглупый и, главное, по нынешнему времени власть. Пусть он их постращает, посадит на какую недельку в подвал, пусть даже недолго подержит в тюрьме, но чтоб только не ушли в лес и не иссиротили ее.
Она лишь боялась, как бы Дрозд не уехал куда, не был занят, не отказал и тем не лишил ее последней возможности удержать их. Но солнце было уже низко, медленно садилось вдали за широкую багровую тучу над лесом, — в такое время, знала она, служащие в местечке расходились из учреждений и занимались своим хозяйством. Правда, она пожалела, что ничего не захватила с собой, надо бы прийти хоть с каким-либо гостинцем да с бутылкой, конечно. Но за ней не пропадет, пусть только поможет.