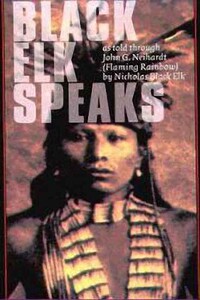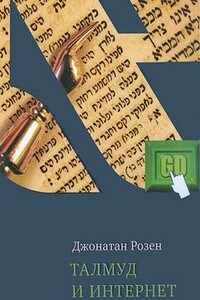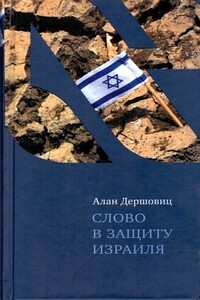Книга воспоминаний исследователя идишской культуры — это интересно само по себе. Не меньший интерес вызывает семья автора: бабушка профессора Дэвида Г. Роскиса, Фрадл Мац, была владелицей крупного идишского издательства в Вильно, его мать, Маша Роскис, в молодости выступала с песнями на идише, а в зрелые годы и до старости держала литературный салон в Монреале. Сам он, будучи студентом, был знаком с крупнейшими фигурами послевоенной идишской литературы — Ициком Мангером, Авромом Суцкевером, Рохл Корн.
Жизненный путь самого Дэвида Г. Роскиса, несмотря на внешнее благополучие, полон внутреннего драматизма. С ранней юности он пытался найти себя — в еврейской религии, в идишской культуре, в непростой семейной истории, подававшейся мамой порционно, вместе с переменами блюд на семейных обедах, в строгой очередности, с заранее известными и ожидаемыми лакунами. В юности он влюблялся, метался между странами и компаниями друзей, оставаясь верным только одному — языку идиш. Ах, да — и литературе на нем. В зрелые годы… Впрочем, книга о зрелых годах еще не написана. О них мы можем судить только по его плодотворной работе преподавателя, исследователя и писателя, — нет, уже не на идише, а на английском (а теперь и в русских переводах).
Более того, за образами благопристойных еврейских матрон, бабушки и матери, скрывается настоящая драма Софокла — или, если хотите, мыльная опера. Бабка, которая выходит замуж по сватовству, вслепую, за пожилого респектабельного господина, рожает ему кучу детей, хоронит нескольких из них, — и только после его смерти находит свою любовь, выходит замуж, рожает дочь (которой завидуют и которую, кажется, ненавидят старшие дети). Семья отца, — точнее, отец и его братья с женами, которые почти буквально в последнюю минуту успевают уехать из Европы, где набирает силу фашизм, — уехать, оставляя на смерть главу семьи, настоявшего на этом отъезде, и сестру. Мать, вышедшая замуж за влюбленного в нее успешного технолога, которого она пленила пением, а сама продолжала любить другого… Мать, которая не может подойти к постели умирающей маленькой дочки, — ибо она ничего не может поделать, в первый — и, кажется, в последний раз в жизни. Мать, которая… Именно образ матери, такой домашний, такой жутковатый, стоит в центре этой книги. Маша Роскис, блестящая, мрачная, почти устрашающая фигура, — и ее сын Дэвид, любящий сын, который пытается вырваться из душных объятий — и не потерять то, что они ему дали…
Перед вами не просто книга воспоминаний — перед вами роман. Роман, который разворачивается в Стране Идиша.
Хава-Броха Корзакова
Часть первая
Застольные беседы
Первым, что я услышал, появившись на свет, было пение моей мамы. Пела она великолепно! Мама могла бы петь мне по-русски, на польском, иврите, идише или украинском: у нее было богатое прошлое, она обладала талантом к языкам и цепкой памятью, так что выбор языков был велик. Однако, учитывая, что недавно мы переехали подальше от ассимилированных евреев Вестмаунта в район Монреаля, где говорили в основном на идише, я думаю, что она могла петь только на священном родном языке — идише.
Поскольку второе марта 1948-го, день моего рождения, по счастливой случайности совпало с праздником Пурим, мама должна была выбрать песню Гоп, майне гоменташн[1] — в этой песне, — исполнявшейся на украинский народный мотив, рассказывалось о «героических» усилиях домохозяйки Яхне-Двоси по выпечке партии треугольных пуримских пирожков. Однако мама, которая всю жизнь «молилась по собственному сидуру», то есть жила своим умом, заменила эту песню другой, больше подходившей ее настроению: праздник — праздником, но не связывать же свою радость с местечковой дурочкой.
И разве не было у нее повода радоваться? Ведь Пурим празднуется в память только об одном нашем избавлении от злодея Гамана, а мама обставила судьбу дважды: сумела убежать из Европы вместе с мужем и детьми, а сейчас, спустя десять лет — ей уже сорок два, — родить здорового, прелестного мальчугана. Такому моменту подойдет только песня из ее богатого репертуара — вот она и выбрала тишлид, веселую застольную песню, которую она обычно напевала за столом, или тишем, после сытного ужина.
Раньше пение — соло или в хоре — уже не раз помогало ей, когда становилось туго. Например, когда в варшавской больнице ей, беременной на седьмом месяце моим братом Биньомином, оперировали внутреннее ухо. Если мама это и пережила, то лишь благодаря псалму, который она велела петь всем собравшимся у ее больничной койки. И вот, в час моих родов, она исполнила