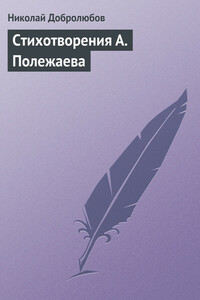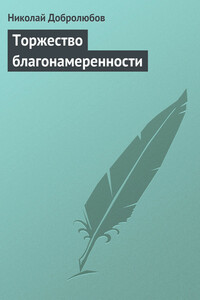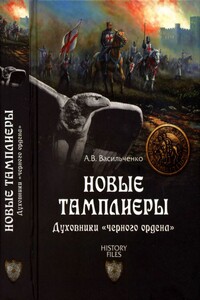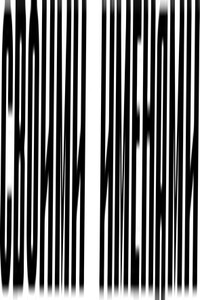Полежаев пользуется у нас довольно печальной известностью в кружке тех читателей, которые доселе продолжают читать его. Кому не случалось встречать молодых людей, хранивших размашисто переписанные тетрадки с непечатными стихами Полежаева? Эти юноши восхищаются темной стороной Полежаева[1], забывая или не зная о его истинных достоинствах. Обвинять ли их за это, считать ли людьми пустыми, ничтожными, неспособными возвыситься над грубыми животными побуждениями? Едва ли справедливо будет такое обвинение; по крайней мере мы никогда не решимся произнести его. Иначе мы должны были бы осудить на ничтожество самого Полежаева, который, конечно, более всего должен подвергаться ответственности за свои стихи. Нет, заблуждение еще не порок, одностороннее развитие – не преступление. Оно всегда есть прямое, неизбежное следствие тех обстоятельств, среди которых суждено человеку жить и развиваться. Можно жалеть о человеке, для которого обстоятельства сложились дурно, можно горько задуматься о той жизненной обстановке, которая может губить лучшие силы души, направляя их к злу и пороку. Но напрасно было бы обвинять самого человека в ошибочном направлении, какое принимает его деятельность под влиянием враждебных обстоятельств. По нашему мнению, только тот заслуживает полного презрения, кто совсем не обнаруживает никакой деятельности, оставаясь во всю свою жизнь существом совершенно пассивным. Такие существа, действительно, не заслуживают никакого участия и могут быть заклеймены названием людей неспособных, негодных, ничтожных, унижающих свое человеческое достоинство. От них ничего нельзя ожидать, как бы ни были благоприятны окружающие их обстоятельства. Получивши раз толчок от внешней силы, они безмятежно и ровно, по силе инерции, движутся в одном, данном им направлении. Они часто достигают предположенной цели весьма удачно, переходя от переписки бумаг к их подписыванью, от первого места на школьной скамье к наставнической кафедре, и пр. Но со всем тем трудно удерживать в себе порыв презрения и даже негодования против этих людей, которых все нравственное достоинство заключалось в умеренности, аккуратности и терпимости и которых труды, бессмысленные и мертвые, могут быть с гораздо большим успехом исполняемы хорошею машиною. Отрекаясь от своей самостоятельности, делаясь орудием чужой силы, такие люди сами становятся в разряд низших существ, сами отказываются от общего братства людского и добровольно вызывают на себя презрение даже тех, которые пользуются их услугами. Подвиг высокой доблести и самая отвратительная низость с одинаковым хладнокровием и аккуратностью совершаются пассивными натурами, как скоро дан им внешний толчок, приводящий их в движение. Тут уже не может быть заблуждений, борьбы, страданий, падения… Тут, собственно говоря, нет и вины, как нет заслуги… Но тяжкая вина пред судом общества и истории – лениво зарыть в землю свой талант, попрать свое достоинство, рутиной и бездействием убивши силы, данные от природы… Зато и общество попирает ногами таких ленивцев. Зато и история эти натуры обходит презрительным молчанием.
Не такова судьба тех несчастных, но все-таки сравнительно высших натур, которые, чуя в себе родник живых сил души, хотят непременно пробиться с ним сквозь кору житейских дрязг, общественных несправедливостей и людских предрассудков. Течение их жизни бывает бурно и мутно, часто гибельно; нередко они теряются на дороге, если сверху сушит их солнечный зной, а внизу поглощает сожженная, рассыпчатая почва; во всяком случае, их отдельная струя пропадает в общем океане истории человечества. Но все же это – движение, жизнь, а не болотный застой. В болоте погибнуть так же легко, как и в море; но если море привлекательно-опасно, то болото опасно-отвратительно. Лучше потерпеть кораблекрушение, чем увязнуть в тине. Моралисты обыкновенно люди сонные, их можно разбудить только грозой. При сильном ударе грома они просыпаются, торопливо спрашивают: «Что случилось?» – и потом начинают кричать об ударе рока, постигшем одного человека, убитого громом. А перед их глазами, возле них сотни и тысячи человек падают от изнеможения, задыхаются, гибнут без шума и следа; этого они не замечают, а если и замечают, то находят, что это совершенно в порядке вещей.
Все эти мысли невольно приходят в голову после прочтения маленькой книжки стихов Полежаева и статьи о нем, написанной Белинским[2]. С обычной своей проницательностью и силой выражает Белинский характер поэзии Полежаева и отношение ее к его жизни. Но у него есть одна фраза, которая может подать повод к ложному толкованию. «Полежаев не был жертвою судьбы, – говорит Белинский, – и, кроме самого себя, никого не имел права обвинять в своей гибели». Мы уже сказали, что, по нашему мнению, именно себя-то он и не мог обвинять.
Пострадал ли Полежаев от судьбы, странно враждебной всем лучшим поэтам нашим, можно видеть при внимательном взгляде на его портрет, который приложен к нынешнему изданию его сочинений[3].
Повесть эта немногосложна, но из нее видно, что Полежаев принадлежал к числу натур деятельных, для которых лучше падение в борьбе, нежели страдательное отречение от всякой личности и самостоятельности. Начало его жизни было лучше, чем ее продолжение, как это заметно из частых сожалений поэта о потерянных годах, как видно из его задушевных воззваний к прежнему времени: