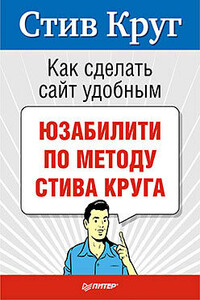Виталий Снежин
СПОСОБ СУДЬБЫ
Кажется, он заикался. Не могу сказать точно: за два года, прошедших с нашей последней встречи, я, человек впечатлительный, вполне мог добавить лишнее. Возможно это было просто какое-то дополнительное придыхание, случавшееся, когда он начинал много и быстро говорить, вышагивая взад-вперед по моей комнате. Или перескок через трещинки, которые моя память, подобно виниловой пластинке, дала после встряски. Вспоминая Антона Волгина, я, к примеру, отчетливо вижу каштановую челку, косо пересекающую лоб, внимательный взгляд, на дне которого то и дело появлялось что-то жалкое, просящее - верный признак душевной неустроенности, - но спроси меня, о чем мы говорили тогда, блуждая, словно в тумане, в сизой папиросной дымке, я едва ли вспомню одну-две второстепенные темы. Был он всегда небрит и безбожно горбился, носил темный воротничок, замыкавший его под самый подбородок, а когда улыбался, не знаю почему, приходила мысль о девственниках, которым суждено первыми воспринять Царство Господне.
Несколько раз он меня удивлял: приходил среди ночи, до изумления пьяный, не похожий на себя; с порога, взмахнув замасленной челкой и заключив меня в любовные объятия, затевал длинный и путаный монолог (чаще всего это были вольные философические построения на тему человеческой свободы). Шагая на длинных, словно у болотной цапли ногах, возбужденно размахивая жилистыми узкими ладонями, он скоро так увлекался, что переставал меня замечать, когда же я решался напомнить о себе, вдруг замолкал, ложился на диван, в полном молчании долго и зачарованно глядел в одну точку на потолке, и даже когда я выключал свет, глаза его еще долго поблескивали в сумерках влажными темными бусинами.
Я не заметил, когда он исчез. Кажется, это был конец сентября. Шли нудные затяжные дожди, непрерывно барабанило по подоконнику; помню, я дремал на диване, когда раздался дверной звонок, и молчаливая девочка с каплей на носу, как потом оказалось, его сестра, протянула мне картонную коробку, доверху заполненную бумагами, и, не сказав ни слова, скрылась за дверью. К коробке прилагалась записка:
"Прости, что не зашел попрощаться. Случилось то, что должно было случиться. Пусть мое бумажное прошлое поживет у тебя подкидышем. Сентиментальность - последний лоскут старой кожи, впрочем, и тут не обошлось без лотереи. Распорядись этим как считаешь нужным, и Боже тебя сохрани причислить меня к сума-сшедшим".
Теперь, два года спустя, я сомневаюсь, что он действительно хотел меня познакомить со своими дневниками, возможно, это просто был гуманный способ избавления от них, но в тот вечер я был уверен, что в точности исполняю его просьбу. Повертев коробку в руках, - что-то глухо стукалось и пересыпалось внутри, - я отнес ее в свой кабинет и там, уже вооружившись очками и сигаретой, взялся за раскопки.
Коробка эта оказалась чем-то вроде личного архива Антона Волгина. Никогда не думал, что это может быть так увлекательно - запускать руку в сумрачный колодец чужой жизни и выуживать оттуда странных рыбин, глядящих на тебя равнодушно, но все-таки греющих руку чужим незнакомым теплом. Кроме восьми общих тетрадок - личных дневников Антона, в коробке обнаружилось внушительное количество штучных вещей: журнальных и газетных вырезок, сувениров, фотографий с физиономией Антона в разных ракурсах: вот годовалый Антон с угрюмой сосредоточенностью античного мыслителя выглядывает из детской коляски, вот он же - бледный подросток, с щенячьей тоской в глазах, лежит щекой на краю школьной парты, а здесь уже в солдатской гимнастерке, на сборах, - сутулая барышня в очках, привстав на цыпочки, что-то шепчет ему на ухо. К моему искреннему удивлению, женская тема на этом не закончилась. Через минуту на столе собралась целая коллекция трогательных женских вещиц: пара платочков с кружевной каймой, до сих пор издававших слабый цветочный аромат, валентиново сердечко с пожеланием любви, надорванное с одного края жестокосердным контролером, завязки для волос - в виде резиночки с деревянным колокольчиком, в форме алого колечка, все еще держащего в складках несколько темных волосков, в виде черной кожаной ленточки, прошитой золотыми нитями, и еще, и еще.
Думаю, прошло не меньше часа, прежде чем мои раскопки достигли главной цели и я раскрыл первый дневник. Скажу сразу - я испытал разочарование. Никогда не думал, что личные дневники могут быть так похожи на бухгалтерские книги. Скелеты таблиц, тощие черви графиков, уныло сползающих по склону упадка, муравьиные залежи арабских и римских цифирь заполняли страницу за страницей (как стало ясно позднее, все это служило грандиозной и темной системе личного усовершенствования), но и редкие поляны свободного текста были под стать всему остальному. Так, к примеру, среди его первых записей попадается странная форма самоконтроля, что-то вроде хроники прожитого дня: вот Антон Волгин встает утром с постели, вот идет в ванную чистить зубы, вот садится завтракать (увековечены глазунья и бутерброд с сардинами), потом без цели бродит по комнате, потом сидит с книжкой на диване, потом наблюдает движение таракана по крышке письменного стола (таракан встает на задние конечности и, вероятно, в приступе той же смертной скуки, чешет передней лапкой сухую грудку). Немного занятней оказывается другая страница, на которой Антон мучительно долго и нудно выясняет отношения с некой N. Молчаливой тенью пройдя сквозь все круги ада мужских нравоучений, бедная девушка, судя по всему, не имевшая ни малейшего представления о тайных притязаниях Антона, зарабатывает добрую дюжину обвинений и упреков, среди которых был, например, упрек в неверности, и в конце концов остается один на один с непростым выбором: предаться ли неминуемому блаженству со своим строгим неизвестным другом или же всецело отдаться порочным призывам своей чувственности.